«В конце концов, – размышлял он, – это дело гораздо проще, чем можно себе вообразить. Я долгое время был не способен написать ничего стоящего и сообщил об этом Гелиобазу. Он, зная апатичное состояние моего разума, соответственным образом применил свою силу, хоть и отрицает это, так что очевидно, что эта поэма стала результатом моих долгое время сдерживаемых идей, которые стремились вырваться, но не могли найти выражения в словах. Единственная загадка всего этого дела – это поле Ардаф, и как же это название меня преследует! И как её лицо сияет пред внутренним оком моей памяти! Чтобы она оказалась призраком моего собственного изобретения, представляется невероятным, ибо когда это я, даже в самых диких своих фантазиях, воображал кого-то, столь прекрасного!»
Его мечтательный взгляд остановился на снежных вершинах напротив, над которыми огромные пушистые облака, сами как движущиеся горы, неспешно проплывали, а их края горели пурпуром и золотом, когда приближались к заходящему солнцу. Вскоре он поднялся, взял перо и первым делом написал адрес на конверте:
«Благородному Фрэнсису Виллерсу, Конституциональный клуб, Лондон».
А затем быстро набросал следующий текст:
«Монастырь Ларса, Дарьяльское ущелье, Кавказ».
«Мой дорогой Виллерс, не пугайтесь вышеуказанного адреса! Я ещё не дал обета вечного затворничества, молчания или целибата! То, что именно я из всех людей мира оказался в монастыре, покажется вам, кому известны мои взгляды, в высшей степени абсурдным, тем не менее я здесь, хоть здесь и не останусь, поскольку уже точно решил завтра на рассвете выехать отсюда тем путём, что ведёт прямиком к предполагаемому месту нахождения развалин Вавилона. Да, Вавилона! А почему нет? Погибшее величие всегда представляло для меня больший интерес для наблюдения, чем существующее ничтожество, и я даже скажу, что побродил бы среди курганов мёртвого города с большим удовольствием, чем по жарким, запруженным людьми улицам Лондона, Парижа или Вены, обречённым обратиться в курганы в своё время. К тому же меня ждёт приключение: поиск нового ощущения, тогда как все старые я уже испробовал и нахожу их пустыми. Вам известен мой кочевой неусидчивый нрав, быть может, во мне есть что-то от греческих цыган – тяга к постоянным переменам мест и окружения, однако, раз моё отсутствие в Англии, вероятно, будет долгим, я высылаю вам поэму. Нет-нет, придержите пока своё восхищение и терпеливо выслушайте меня. Я прекрасно знаю, что бы вы сказали по поводу крайней глупости и бесполезности написания стихов вообще в нашем нынешнем веке водянистой литературы, копеечных сенсаций и популярных распутных драм, и я также прекрасно помню, каким образом обошлась эта самая пресса с моей последней книгой. Батюшки! Как критики, словно собаки, визжали у моих пят, щёлкая зубами, принюхиваясь и скалясь! Тогда я готов был рыдать, будто чувствительный дурак, каковым я и был. Теперь я смеюсь! Короче, друг мой, – ибо вы и есть мой друг и лучший из всех ребят, – я принял решение возобладать над теми, кто восставал против меня, прорвать ряды педантичных и предвзятых суждений и штурмовать вершину славы, не оглядываясь на мелких популярных трубачей-перевёртышей, которые стоят у меня на пути и надрывают глотки, крича в уши публике, чтобы заглушить, если удастся, мою песнь. И я буду услышан! И в этом я возлагаю свою веру на работу, которую поручаю вашему попечительству. Опубликуйте её немедленно и в самом лучшем виде – и я покрою все издержки. Объявите о ней во всеуслышание, но с приличествующей скромностью, поскольку шумную рекламу я всей душой презираю; и даже если вся пресса повернётся и станет аплодировать мне так же, как прежде оскорбляла и высмеивала, то я не приму ни единой из их дешёвых строк снисходительно-невежественного одобрения, применительно к тому, что должно быть совершенно ненавязчивым и простым обнародованием этого нового произведения моего пера. Рукопись исключительно разборчивая даже для меня, мужчины, не пишущего каракулями, так что вам едва ли придётся утруждать себя корректировкой, хотя, даже в этом случае и если печатники окажутся неисправимыми тупицами и невежами, я знаю, что вы не пожалеете ни сил, ни времени на это дело. Дорогой Фрэнк Виллерс, скольким я уже вам обязан, но всё же охотно принимаю на себя ещё один долг в этом деле, и мне приятно быть должником вашей дружбы, но поверьте, что только на условиях возврата с хорошими процентами! Кстати, вы помните, как на последней парижской выставке нас очаровала одна картина – голова монаха с поистине просветлённым взглядом из-под складок опущенного белого капюшона? И в каталогах она числилась как портрет некоего «Гелиобаза», восточного мистика, в прошлом известного в Париже экстрасенса, ушедшего в монахи? Так вот, я отыскал его здесь; он определённо наставник или глава этого ордена, хотя, что это за орден и когда он появился, я сказать не могу. Здесь всего пятнадцать монахов живут, довольные этой древней полуразрушенной обителью посреди бесплодных круч морозного Кавказа; все они прекрасные, словно принцы, ребята, а сам Гелиобаз – исключительный образчик своей расы. Я только что отобедал со всей общиной и был искренне поражён раскованностью и остроумием их беседы. Они говорят на всех языках, включая и английский, и ни одна тема им не чужда, ибо они осведомлены о последних политических событиях во всех странах; им всё известно о новейших научных открытиях (над которыми они, кстати, вежливо посмеиваются, словно это детские игрушки); и они обсуждают наши современные общественные проблемы и теории с сократовской проницательностью и хладнокровием, которым нашим парламентским ревунам не мешало бы поучиться. Их кредо…, однако я не стану утомлять вас теологическими дискуссиями, достаточно будет сказать, что в его основе лежит Христианство и что в настоящее время я не очень понимаю, как к нему относиться! На этом, мой дорогой Виллерс, я прощаюсь! Отвечать на это письмо нет надобности; кроме того, я не могу дать вам адреса, поскольку не знаю, где окажусь в ближайшие два-три месяца. Если мне не доставит ожидаемого удовольствия созерцание руин Вавилона, то я, вероятно, поживу в Багдаде недолго и попытаюсь углубиться во времена доброго Гарун-аль-Рашида. В любом случае, что бы ни случилось со мной, я знаю, что отдаю поэму в надёжные руки, и всё, о чём я прошу, это выпустить её в свет без промедления, ведь её немедленная публикация представляется мне самым важным делом моей жизни, за исключением… за исключением авантюры, на которую я теперь решился, но об этом позже, при встрече. А до тех пор вспоминайте меня добрым словом и верьте, что я
Закончив и запечатав это письмо, Олвин ещё раз взял рукопись и снова задумался над названием. Стоп! А почему бы ни назвать её именем совершенной героини, чья сердечная страсть и печаль составляют ядро легенды? Именем, которое он, по правде говоря, не выбирал осознанно, а которое часто являло созвучие с мелодичным тоном всей поэмы. «Нурельма»! Звучит мягко и будто дышит восточной истомой любовной песни, это, несомненно, самое лучшее название. Стремительно приняв решение, он разборчиво написал вверху первой страницы так: «Нурельма, Древняя легенда о любви». Затем, перейдя в конец, он подписал собственное имя со смелыми завитками, таким образом засвидетельствовав собственное неоспоримое право на авторство того, чему суждено было не только стать знаменитым шедевром поэзии современности, но также обозначить самую удивительную, сложную и оскорбительную проблему, когда-либо рождавшуюся в уме. Внимательно пронумеровав страницы, он сложил их в аккуратный пакет, который плотно связал и запечатал, затем, адресовав своему другу, он положил письмо и пакет вместе и поглядел на них несколько задумчиво, чувствуя, что в них состоит его величайший шанс прославиться навеки. Бессмертная слава! Какой широкий путь огромных возможностей эти слова приоткрывали его воображению! Потонув в приятных размышлениях, он снова выглянул наружу. Солнце село позади гор, так что не осталось и следа от его огненного присутствия, кроме золотого ободка, из которого огромные сверкающие лучи протянулись вверх, как поднятые пики, пронзавшие пурпурно-розовые облака. Лёгкий щелчок открывшейся двери нарушил его задумчивость, он повернулся в кресле и наполовину поднялся, когда вошёл Гелиобаз, неся маленькую, богато украшенную серебряную шкатулку.
– Ах, друг Гелиобаз, наконец-то вы пришли! – сказал он с улыбкой. – Я уже начал думать, что вы никогда не явитесь. Моё письмо окончено, и, как видите, поэма отправляется в Англию, и я молюсь, чтобы она встретила там лучшую судьбу, чем до сих пор ожидала мои старания!
– Вы молитесь? – многозначительно спросил Гелиобаз. – Или вы просто надеетесь? Есть огромная разница.
– Не сомневаюсь, – отвечал он беспечно, – и, конечно, чтобы быть точным, мне следовало сказать «я надеюсь», ведь я никогда не молюсь. Что это у вас там? – указал он на предмет, который принёс Гелиобаз и поставил на стол перед ним. – Ковчег? И внутри, должно быть, лежит частица истинного креста? Увы! Я не верю в эти частички – их слишком много!
Гелиобаз мягко рассмеялся.
– Вы правы! Кроме того, ни единой щепки истинного креста нет на свете. Он был, как и прочие используемые в то время кресты, выброшен вон как хлам и сгнил в земле задолго до того, как императрица Елена пустилась в свои благочестиво-безумные странствования. Нет, у меня там нечто иное, – и, сняв ключ с тоненькой цепочки, что висела у него на поясе, он отпер шкатулку. – Этим владели различные члены нашего ордена на протяжении веков, это наше самое главное сокровище, и оно редко, можно даже сказать, никогда не показывается чужакам, но мистическое поручение, которое вы получили касательно «поля Ардаф», даёт вам полномочие увидеть то, что, как я думаю, должно оказаться интересным для вас в данных обстоятельствах. – И, открыв коробочку, он вытащил маленький квадратный том в толстом серебряном окладе и с двойным замочком. – Это, – продолжал он, – оригинальный текст главы о «Видениях Ездры», датированный тринадцатым годом после краха экономического могущества Вавилона.

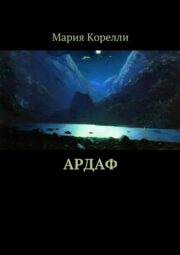
"Ардаф" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ардаф". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ардаф" друзьям в соцсетях.