– Никогда! – заявил Олвин со страстным жестом. – Я бы узнал её из тысячи!
На секунду Гелиобаз бросил на него внезапный испытующий, почти сочувствующий взгляд, затем отвёл глаза и мягко сказал:
– Что ж, будем надеяться на лучшее – пути Господни неисповедимы, а вы скажите мне: теперь – теперь после вашего странного так называемого «видения», вы верите в Бога?
– Я так говорил, конечно, – и лицо Олвина слегка зарумянилось, – но…
– Ага! Вы сомневаетесь! Есть какое-то «но» в этом деле! – и Гелиобаз повернулся к нему с огромным упрёком в ясных глазах. – Уже отступаете с намеченного пути! Уже снова рвётесь во тьму! – Он замолчал, затем положил руку на плечо гостя и продолжил мягким, но выразительным тоном: – Друг мой, запомните, что скептик и противник Бога есть враг собственного благополучия. Пусть эта противоестественная и бесполезная война человеческого разума против божественного инстинкта умрёт в вас – в вас, кто, как поэт, обязаны уравновесить свой характер таким образом, чтобы он мог гармонично следовать своему высокому призванию. Вам известно, что́ один из ваших современных писателей говорит о жизни? Что это «сон, в котором мы цепляемся за тени, словно они вещественны, и спим глубже всего именно тогда, когда нам кажется, что мы бодрствуем»6. Поверьте, вы уже достаточно спали – пришло время проснуться навстречу полному сознанию своей судьбы.
Олвин слушал молча, чувствуя скрытый упрёк и некоторый стыд: откровенно высказанные слова задели его сильнее, чем он старался показать, – голова его поникла, он не отвечал. В конце концов, у него поистине было не больше объективных оснований для неверия, чем у других – для веры. Со всей его учёбой в современных научных школах он продвинулся в своих познаниях не дальше, чем древний Демокрит; Демокрит, который основывал свою систему ценностей на строгих математических расчётах, беря в качестве точки отсчёта вакуум и атомы, и кто, годами направляя свой разум по пути постоянных изысканий, пришёл, наконец, к заключению, что человеку совершенно недоступны объективные знания, и даже если истина находится в его власти, то он никогда в ней не уверен. Был ли он, Теос Олвин, мудрее Демокрита? Или был ли этот статный халдейский монах с ясным, проницательным взором, и нежной улыбкой, и символом Христа на груди мудрее них обоих? Мудрее в вещах вечных, чем любой из древнегреческих утончённых мыслителей или современных подражателей их теорий? Было ли, могло ли быть что-либо всё ещё непознанное или сокрытое в Христианской вере? Как только эта идея пришла ему в голову, он вскинул взгляд и встретился глазами со спокойным, пристальным взором, исполненным наблюдательной нежности и терпения.
– Вы что, читаете мои мысли, Гелиобаз? – спросил он с вымученным смешком. – Уверяю вас, они не стоят ваших усилий.
Гелиобаз улыбнулся, но не ответил. Как раз в тот момент один монах вошёл в комнату с большим фонарём, который поставил на стол, и таким образом прерванный разговор так и не возобновился.
Вечерние тени теперь стремительно уплотнялись, и над самой далёкой видимой снежной вершиной первая звезда уже слабо мерцала на фоне тёмного неба. Вскоре зазвонил монастырский колокол, как и прошлой ночью, когда Олвин, только что приехав, сидел в одиночестве в трапезной, беспокойно гадая, среди каких людей он оказался и чем же обернётся в итоге его приключение в диких горах Кавказа. Его взгляды, несомненно, претерпели ряд изменений с тех пор, поскольку он более не был расположен насмехаться или осуждать религиозные чувства, хотя всё ещё отстоял от истинной религиозности столь же далеко, сколь и всегда. Настроение его разума всё ещё было исключительно скептическим, высокомерное упорство в том, что он считал своими твёрдыми, укоренившимися убеждениями, лишь едва поколебалось, и теперь будущая поездка к Ардафу виделась ему фантастической прихотью, капризом собственного воображения, который он вознамерился удовлетворить просто из любопытства.
Но, несмотря на упрямство материалистических принципов, которым он пропитался, его высшие чувства уже незаметно для него самого начинали возрождаться; память его невольно возвращалась к первым нежным дням ранней юности, когда яд сомнений ещё не просочился в душу; его характер, от природы возвышенный, творческий и горячий, начинал пересиливать погибельное дыхание слепого атеизма, которое временно парализовало его силы; и, по мере того как он всё больше и больше невольно поддавался кротким убеждениям этих дружественных сил, прежняя горечь постепенно смягчалась. В нём теперь не осталось и следа того мрачного, насмешливого и безрассудного презрения, которое до недавнего мистического опыта проявлялось во всём его поведении и манерах; улыбка теперь чаще появлялась на его губах; и он, казалось, охотно демонстрировал солнечную сторону своего характера – характера страстного, откровенного, благородного, в котором лишь немного исказились истинные качества и сузился круг привлекательных черт. Над его нынешним состоянием рассудка довлело любопытное, смутное чувство полуприятного раскаяния: хрупкие, неопределённые, почти божественные предположения наполняли его мысли той же свежестью, что прохладный ветерок дарует увядающим, поникшим цветам; поэтому, когда Гелиобаз, подняв «Ездру» в серебряном окладе и готовясь уйти из комнаты, следуя вечернему призыву колокола, мягко спросил: «Вы пойдёте на службу, м-р Олвин?», он сразу же кивнул с радостной готовностью, которая несколько удивила его самого, поскольку он помнил, как в предыдущий вечер сам же презирал и внутренне противился всем формам религиозных обрядов.
Тем не менее он не переставал размышлять над причиной перемены своего настроения. Он последовал за монахами в часовню с видом грациозной мужественности и спокойным почтением, которые шли ему гораздо больше, чем обидчивость и оборонительное поведение, которые он прежде демонстрировал в той же самой молельне; он прослушал впечатляющую мессу от начала до конца без малейшего раздражения или нетерпения; и хотя, когда братья преклонили колени, он не смог смирить себя настолько, чтобы тоже встать на колени, он всё же внешне воздал уважение, присев и склонив голову, – «из уважения к благим намерениям сиих достойных людей», как он сам себе сказал, чтобы утихомирить внутренний конфликт собственных противоборствующих и противоречивых чувств. По окончании службы он, как и раньше, ждал, пока выйдут монахи, и был поражён внезапным удивлением, угрызением совести и сожалением, когда Гелиобаз, шедший как обычно в конце, остановился рядом и сказал:
– Я попрошу вас проститься здесь, друг мой! Сегодня у меня много дел, и лучше бы нам уже не видеться перед вашим отъездом.
– Отчего же? – спросил поражённый Олвин. – Я рассчитывал на новый разговор с вами.
– Ради чего? – мягко спросил Гелиобаз. – Чтобы мне пришлось доказывать, а вам отрицать то́, что Господь со временем уладит Сам? Нет, не будет добра от подобных споров.
– Но, – поспешно заговорил Олвин, ярко вспыхнув при этих словах, – вы не дали мне возможности вас отблагодарить…
– Благодарность? – спросил Гелиобаз почти грустно, с тенью упрёка в тоне мягкого, зрелого голоса. – Вы благодарны за то, что были обмануты трансом? Одурачены, как вам кажется, какой-то полуверой в жизнь посредством гипнотизма? Вашей первой просьбой ко мне, я знаю, было погрузить вас в обманчивое состояние воображаемого счастья, и теперь вы думаете, что вчерашнее приключение стало результатом этого в высшей степени глупого желания. Вы ошибаетесь! И, как обстоят дела, благодарностей мне не требуется. Если бы я и в самом деле вас загипнотизировал, то, вероятно, заслуживал бы некой награды за применение своих чисто профессиональных умений, но, как я уже вам сказал, я ничего не сделал. Ваша судьба, как это и было всегда, находится в ваших руках. Вы нашли меня по собственной воле, вы использовали меня как инструмент – безвольный инструмент, запомните! Короче, – тут он заговорил медленнее и с сильным ударением, – вы отправляетесь к полю Ардаф, чтобы разрешить загадку, а именно: не является ли то, что мы зовём жизнью, сном, а сон, быть может, не есть ли реальность! К этому вашему предприятию я не имею никакого отношения, не стану и говорить больше ничего, кроме как, да поможет вам Бог на вашем пути!
Он протянул руку, Олвин пожал её, испытующе глядя в прекрасное, мудрое лицо, ясные, печальные глаза, на твёрдый, но чувственный рот, где покоилась серьёзная, но добродушная улыбка.
– Что вы за странный человек, Гелиобаз! – импульсивно воскликнул он. – Хотел бы я узнать вас лучше!
Гелиобаз одарил его дружеским взглядом.
– Стремитесь лучше узнать побольше о себе самом, – просто ответил он. – Нет более глубокой, великой и сложной тайны для познания, чем тайна собственного существования!
Олвин всё ещё сжимал его ладонь, не желая отпускать. Наконец отпустив её со вздохом, он сказал:
– Что ж, в любом случае, хоть мы и прощаемся, но ненадолго. Мы просто обязаны встретиться вновь!
– Если обязаны, то встретимся! – шутливо поддержал его Гелиобаз. – Чему быть, того не миновать! А пока прощайте!
– Прощайте! – и при этих словах взгляды их встретились.
Инстинктивно, под действием внезапного порыва Олвин склонил голову в нижайшем и самом почтительном поклоне, какой, вероятно, когда-либо отдавал за всю жизнь смертному созданию, и при этом Гелиобаз замер, уже повернувшись, чтобы уйти.
– Вы просите благословения, дорогой мой Скептик? – спросил он мягким тоном, дрожавшим от нежности в тишине сумрачной часовни. И затем, не дождавшись ответа, возложил руку на тёмные волосы юноши, а другой медленно начертал крест на гладком, широком лбу. – Прими его, сын мой! Я могу дать тебе только благословение креста Христова, который, несмотря на неверие, взывает к тебе, спасает тебя и всецело владеет тобою!
И прежде чем Олвин оправился от удивления от столь нежеланного благословения, Гелиобаз уже исчез, оставив его в одиночестве. Подняв голову, он смотрел в глубину коридора, где только что видел отдалённый проблеск исчезающих белых одежд, и на секунду его заполнило безмолвное возмущение. Ему казалось, что знак, таким образом нанесённый ему на лоб, должен быть видимым, словно красная метка, выжженная на плоти; и все его давние и яростные предубеждения против Христианства нахлынули снова с неудержимой стремительностью некогда изгнанных врагов, а теперь снова возвратившихся, чтобы взять цитадель штурмом. Однако почти так же быстро ярость его угасла: он вспомнил, что в своём видении тенистый путь почти предшествовал ему в форме креста, и в более спокойном настроении он взглянул на рубиновую звезду, ровно сиявшую над тёмным алтарём. Невольно слова: «Мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему», пришли на память, но он отмахнулся от них так же быстро, как они и возникли, и, обнаружив замешательство и растущее беспокойство мыслей, он поспешно вышел из часовни.

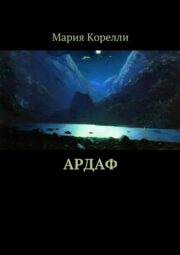
"Ардаф" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ардаф". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ардаф" друзьям в соцсетях.