Снова и снова Олвин перечитывал эти слова и размышлял над глубокой и сложной загадкой, которую они предлагали, и его коснулось странное чувство стыдливого угрызения совести, когда в конце книги он дошёл до признания Аль-Газали в своём крайнем бессилии и покорности, которое он записал так:
«Я проанализировал все свои действия и обнаружил, что лучшими из них были те, что относились к воспитанию и обучению, но даже и в них я узрел себя отданным во власть малозначительных наук, вовсе бесполезных в ином мире. Размышляя о цели моего обучения, я понял, что она была не совсем искренней в глазах Всевышнего. И что все мои усилия были направлены на обретение собственной славы. По этой причине раздав своё богатство, я покинул Багдад и удалился в Сирию, где и пребываю в одинокой борьбе с собственной душой, сражаясь со страстями и упражняясь в очищении сердца, готовясь к переходу в мир иной».
Трактат древнего философа, вместе с мистическим отрывком оригинальной книги Ездры и избранными стихами из апокрифа составляли всё чтение Олвина до самого конца поездки; восторженные строки пророка он выучил наизусть, как любимую поэму, и часто он ловил себя на бессознательном повторении странных слов:
«Узри это поле, которое считал ты бесплодным, какую великую славу разоблачает луна!
И я взглянул, и ужаснулся, ибо я уже был не я, но другой.
И был меч смерти в душе другого, и всё же он был никто иной, как я в страдании.
И не узнавал я прежде знакомых вещей, и сердце моё трепетало от смертельного страха в груди».
Что они могли означать, гадал он? И был ли вообще смысл в тех бледных далёких домыслах, что случайно и с трудом приоткрывались за смутными и бессмысленными восторгами языка, исполненными ярости и звука, но ничего не означавшими?
Знойный, палящий день уже приближался к вечеру, когда он наконец добрался до Хилле. Этот маленький скучный городок, построенный в начале двенадцатого века на обильно рассеянных тогда обломках Вавилона, ничего не мог предложить современному путешественнику, кроме разнообразных неудобств вроде невыносимой жары, пыли и песчаных бурь, грязи, мух, дурной пищи и общего дискомфорта. Сочтя вид этого места не просто малопривлекательным, но положительно удручающим, Олвин оставил свой лишний багаж в маленьком неприглядном общежитии, которое содержал француз, живший в основном за счёт археологов и исследователей; и после часового отдыха отправился в одиночестве и пешком в «восточный квартал» развалин, а именно, к тем, которые, как считали исследователи, начинались примерно в двух милях выше Хилле. Немного дальше за ними и ближе к речному берегу, согласно полученной им информации, проживал религиозный затворник, которому он привёз рекомендательное письмо от Гелиобаза; письмо, на конверте которого красовалась надпись на латыни, в переводе означавшая следующее: «Почтеннейшему и дражайшему Эльзиру Милянскому, Хижина отшельника, пригород Хилле. С верой, миром и доброжелательностью. Приветствую». Стремясь попасть в убежище Эльзира затемно, он шёл вперёд так быстро, как только позволяла ему жара и непроходимость песчаной почвы, придерживаясь едва различимой дорожки, что многократно пересекала через разные промежутки многочисленные выступы земных разломов, мелкие фрагменты кирпича, асфальта и керамики, которые теперь были единственным напоминанием о величественных зданиях когда-то знаменитого Вавилона.
Низкое красное солнце медленно опускалось за край горизонта, когда, остановившись, чтобы оглянуться, он заметил невдалеке тёмные очертания великого кургана, известного как «Бирс Нимруд», и понял с долей удивления, что фактически оказался со всех сторон окружённым осыпавшимися и почти неразличимыми развалинами бывшего верховного, всегосподствующего ассирийского города, что был когда-то как «золотая чаша в руках Всевышнего», а теперь поистине представлял собой не более чем «разбитый пустой корабль». Ибо слова «И Вавилон будет грудою развалин» определённо исполнились с пугающей точностью: «грудою» он и в самом деле стал – грудою унылой земли, из которой тут и там торчат блёклые зеленоватые пучки дикого тамариска, которые, хоть и оживляют слегка мрачность пейзажа, но вместе с тем и усиливают его однообразную сонливость. Олвин, созерцая печальную пустыню, почувствовал сильное разочарование, ведь он ожидал чего-то иного: воображение рисовало ему эти исторические руины в огромных масштабах и более впечатляющего вида. Его усталый взгляд остановился на неспешном тусклом поблёскивании Евфрата, который петлял на пустынных пространствах, где «могущественный град, гордость народов» когда-то стоял, и поэт, хоть он и был таковым до мозга костей, не мог увидеть ничего поэтического в этих призрачных курганах и каменных грудах, кроме того, что гласит древнее скриптуальное пророчество: «Пал! Пал Вавилон! Я напою его вождей и мудрецов, наместников, начальников и воинов; и они уснут вечным сном и не проснутся больше, – возвещает Царь, чье имя – Господь Саваоф». И поистине казалось, будто проклятие, которое опустошило былое великолепие города, сбывалось даже на его руинах, выглядевших ничтожными.
В тот самый момент зарево заходящего солнца коснулось верхнего края Бирс Нимруда, придав ему на мгновение странный вид: казалось, будто бы призрак какого-то вавилонского наблюдателя помахивал зажжённым факелом с его вершины; однако горящий блеск вскоре пропал и умер в серых сумерках, накрывших тишиной весь печальный пейзаж. С неожиданным чувством уныния и усталости Олвин испустил глубокий вздох и скоро заметил стоявший немного к северу от реки маленький грубо сколоченный домик с деревянным крестом на крыше. Правильно заключив, что это должна была быть обитель Эльзира Милянского, он быстро направился к ней и постучал в дверь.
Ему немедленно отворил седовласый колоритный старик, приветствовавший его молчаливым кивком, одновременно приложив руку в лёгком, но выразительном жесте к собственным губам, сообщая о своей немоте. Это и был сам Эльзир. Одет он был в ниспадающие одежды, похожие на те, что носили монахи Дарьяльские, и со своей высокой, ладной фигурой, длинной серебристой бородой и глубоко посаженными, но яркими глазами он мог бы послужить отличной моделью для вдохновенного пророка из пышной древности. Хоть природа и обделила его речью, но безмятежное лицо выразительно говорило само за себя: его зрелое, доброжелательное выражение отражало внутренний сердечный мир, что так часто придаёт старикам даже большую прелесть, чем молодость. Он внимательно прочёл письмо Олвина и затем, серьёзно наклонив голову, сделал учтивый и выразительный жест, сообщая, что он и весь его дом были в распоряжении гостя. Немедленно он подкрепил серьёзность своего жеста делом, поставив прекрасный ужин и вино перед гостем, и, более того, пока Олвин ел и пил, он выжидал с почтением и скромностью, которые несколько смутили Олвина, не желавшего доставлять хлопот подобным обращением, в чём множество раз и заверял его с глубочайшей искренностью. Но всё это было бесполезно – Эльзир лишь добродушно улыбался и продолжал исполнять обязанности гостеприимного хозяина на свой лад. Спорить с ним, очевидно, было бесполезно. Позже он показал гостю маленькую, подобную келье комнатку с чистой кроватью, столом, стулом и большим распятьем на стене, и, красноречиво показав знаками, что здесь усталый путник мог найти добрый приют, он низко поклонился и удалился на ночь.
«Какое безмятежное место эта обитель, – подумал Олвин, как только удалявшиеся шаги Эльзира стихли, – ни единого слабого шороха листьев на ветру!» А какое проницательное, серьёзное, печальное выражение нежности заполняло лицо этого скульптурного образа на кресте, который в его интимной компании будто завладел маленькой комнатой! Он не мог вынести этого опущенного, проницательного взгляда, исполненного небесной доброты и жалости. Резко повернувшись, он распахнул узкое окошко и, положив руки на подоконник, стал оглядывать пейзаж. Полная луна медленно восходила; круглая и огромная, она висела жёлтым щитом на фоне тёмной, плотной стены небес. Развалины Вавилона были едва различимы, река сияла золотой рябью; очертания Бирс Нимруда слабо обрамлял свет, и маленькие прожилки янтарного блеска мягко блуждали вверх и вниз по его тёмным склонам.
«И пошёл я на поле, которое называется Ардаф, и сел там в цветах!» – размышлял Олвин вслух тихим голосом, его мечтательный взгляд остановился на постепенно темнеющих небесах.
«А почему бы не пойти туда прямо сейчас!»
Глава 9. Поле цветов
Как только эта идея посетила его ум, он тут же был готов к действию, хотя лишь немногим ранее, чувствуя себя полностью измотанным, собирался ждать до утра, прежде чем добраться до главной цели своего длинного паломничества. Но теперь весьма странным образом всё чувство усталости внезапно покинуло его, острое нетерпение сжигало кровь, и властное влияние, более сильное, чем он сам, будто поторапливало к немедленному достижению цели. Чем больше он об этом думал, тем сильнее беспокоился и тем сильнее жаждал выяснить как можно скорее, был ли истинным или ложным его мистический сон в монастыре. В свете маленького фонаря на столе он сверился с картой – с картой, начерченной рукою Гелиобаза, – а также с указанными ориентирами, хотя их он перечитывал столько раз, что уже знал наизусть. Они просто и кратко описывали следующее: «На восточном берегу Евфрата, прямо напротив обители, находится потонувший фрагмент бронзовых врат, прежде принадлежавший дворцу Вавилонских царей. По прямой линии, в трёх с половиной милях к юго-западу от этого фрагмента, ты найдёшь рухнувшую колонну красного гранита, наполовину засыпанную землёй. Квадратный участок земли, находящийся позади этой сломанной колонны, и есть поле, известное со слов пророка Ездры, как „поле Ардаф“».
Он уже находился на восточном берегу Евфрата, и прогулка длинною в три с половиной мили определённо могла занять около часа или чуть больше. Оставив сомнения, он вышел из дома, решив, что если бы встретил Эльзира, то сказал бы, что направлялся на подлунную прогулку перед сном. Сего почтенного отшельника, однако, нигде не было видно, и, поскольку дверь его жилища была заперта лишь на лёгкую щеколду, он без труда проскользнул наружу незамеченным. Оказавшись на воздухе, он замер, испугавшись звука смелых, звонких, молодых голосов, поющих ясным и стройным хором: «Смилуйся Господи! Смилуйся Христе! Смилуйся Господи!». Он прислушался, оглядываясь вокруг себя в крайнем изумлении. В поле зрения не было ни единого жилья, кроме Эльзирова, и хор, конечно, звучал не оттуда, а словно поднимался вверх от земли, витая нежным эхом взад-вперёд среди беззвучного воздуха. «Смилуйся Господи! Смилуйся Христе!» Теперь этот звук колыхался вокруг него, словно близкий колокольный звон!

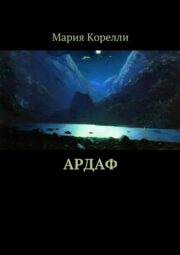
"Ардаф" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ардаф". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ардаф" друзьям в соцсетях.