Он стоял, не двигаясь, озадаченный и поражённый. Может, рядом находился подземный грот, где пели эти набожные певцы? Или… И лёгкая дрожь пробежала по его спине при мысли о том, что в этой музыке присутствовало нечто сверхъестественное, несмотря на явно человеческое исполнение. В этот момент всё стихло и стало как прежде. И, злясь на собственные бредовые фантазии, он вспомнил о своей цели – потонувшем обломке, который упоминал Гелиобаз. Очень скоро он его отыскал, глубоко погружённый в землю и так сильно почерневший и испорченный временем, что едва ли возможно было найти следы когда-то украшавшей его резьбы. Фактически, в нём невозможно было бы узнать фрагмент ворот вообще, если бы только до сих пор не сохранилась огромная петля, которая частично держалась на одном огромном заржавленном гвозде, а прямо за ним росло дерево странного унылого вида: его ствол был расколот, и одна половина стояла высохшая. Вторая половина скорбно опиралась на одну сторону, склонив свои ветви к самой земле, подметая богатством длинных глянцево-зелёных листьев пыль разрушенного города. То было знаменитое дерево, называемое местными жителями «Атель», о котором древние легенды рассказывают, будто оно прежде было излюбленным вечнозелёным и самым опекаемым и ценимым вавилонской знатью, которая, обожая его приятную тень, не жалела средств на выращивание в собственных висящих садах и просторных дворах, хотя его происхождение и было чуждым этой земле. А теперь, когда некому уже стало заботиться о том, расцветает ли оно или увядает, оно с надеждой клонится к покинутому месту, где когда-то его столь нежно пестовали, выражая собственную симпатию окружающему опустошению; расколовшись надвое в своём росте, – на одну погибающую и другую зелёную половины, – это создание с разбитым сердцем продолжает хранить верность памяти былой любви и счастья. Олвин стоял под тёмными ветвями, ничего не ведая ни о его названии, ни об истории; то и дело стенающий шёпот будто пробегал по ним, хотя стояло безветрие, и он слышал жуткие сокрушённые вздохи с чувством невольного благоговения. Вся эта сцена выглядела намного более впечатляющей ночью, чем днём, великие земляные курганы Вавилона казались гигантскими могилами, замкнутыми сверкающим кольцом колышущейся на ветру воды. И снова он осмотрел притопленный кусок древних врат, а затем, чувствуя достаточную уверенность в таком начале, он повернул лицо прямо на юго-запад – туда, где ландшафт перед ним лежал ровный и обнажённый при свете луны. Почва была песчаная и тяжело проходимая, кроме того, ночь стояла слишком жаркая – слишком жаркая для быстрой ходьбы. Он бросил взгляд на часы – несколько минут одиннадцатого. Умеренным шагом, который позволяла поддерживать жара, вполне вероятно было добраться до таинственного поля к половине двенадцатого, или раньше. И тогда нервы его натянулись от сильного напряжения, и если бы он поддался собственному болезненному нетерпению, то, скорее всего, пробежал бы весь путь, не придав значения духоте, однако он обуздал свой порыв и неспешно зашагал к цели, упрекая себя по пути в крайней безрассудности собственных ожиданий.
– Есть ли кто в мире безумнее меня! – шептал он с каким-то презрением. – Какой ещё разумный человек повинен в подобном отъявленном дурачестве! Благоразумен ли я? Конечно же, нет! В своём ли уме нахожусь? Думаю, что да, но могу и ошибаться. Вопрос в том, что есть благоразумие? И что значит «быть в своём уме»? Никто не может решить! Посмотрим, способен ли я хладнокровно оценить собственное смехотворное положение. Всё свидетельствует о том, что я попал под гипноз! У меня был сон, и я видел в нём женщину, – тут он внезапно поправился: – женщину, я сказал? Нет! Она была чем-то большим! Прекрасным призраком, ослепительным творением моего воображения, неповторимым идеалом, который я однажды увековечу! Да! Увековечу в песни!
Он возвёл глаза к сумрачному небосводу, густо усеянному звёздами, и как раз в тот момент заметил пушистое, с серебристым краем облачко, быстро проплывавшее под луной и спускавшееся к земле; форма его напоминала белокрылую птицу с нежными прожилками розового тут и там, словно она только что побывала в каких-то далёких землях, где солнце только восходило. Это было единственное облачко на небе, и оно производило необыкновенный, почти феноменальный эффект стремительностью своего движения при отсутствии малейшего ветерка. Олвин наблюдал за его скольжением вниз, пока оно полностью не исчезло, и затем продолжил свои размышления.
– Любой, даже и без магнетического воздействия, мог иметь подобные видения! Взять курильщика опиума, например, чья жизнь – это одна длинная неясная дорога видений; предположим, он решил бы поверить всем диким фантазиями одурманенного мозга и настаивал бы на следовании им до стадии некого определённого завершения; единственным подходящим местом для такого человека стал бы сумасшедший дом. Даже самые обыкновенные люди, чей разум никогда не подвергался ненормальному возбуждению, видят очень занятные и необъяснимые сны, но, при всём этом, они не настолько глупы, чтобы в них верить. Правда, есть ещё моя поэма – не знаю, как я её создал, но она есть от начала до конца фактический материальный результат моего видения, и по-своему весьма странный, по меньшей мере. Но, что ещё удивительнее, – это моя любовь к сияющему призраку. Да, я действительно влюбился в неё так, как ни в одну простую женщину, будь она хоть троянской Еленой, я не влюбился бы сильнее! Конечно, несмотря на противоречивые заверения этого выдающегося халдейского монаха Гелиобаза, я чувствую себя жертвой обмана разума, по этой причине я и должен увидеть поле Ардаф, дабы увериться в том, что ничего из этого не выйдет, и в этом случае я бы излечился от своего безумия.
Он шёл ещё недолго и затем остановился на секунду, чтобы свериться с картой при свете луны. При этом он ощутил необычайное, почти ужасающее спокойствие, окутавшее его. Хотя в обители отшельника и было тихо, как в закрытой могиле, но та тишина не имела ничего общего со здешней. Он чувствовал, как она смыкалась вокруг него толстыми стенами, он слышал ровное биение собственного сердца, даже течение собственной крови, но никаких иных звуков. Земля и воздух, казалось, не дышали, словно находясь в каком-то сдерживаемом таинственном восторге; звёзды были похожи на множество огромных живых глаз, нетерпеливо смотревших вниз, на одинокого человека, который бродил в ночи по землям пророков древности; сама луна показалась, чтобы взглянуть на него с открытым изумлением. Он с неприязнью ощутил это молчаливое созерцание природы, напряг слух, вслушиваясь в углублявшуюся тишину всего сущего, и, чтобы преодолеть странные эмоции, что одолевали его, он ускорил шаг, однако через две-три минуты снова резко остановился. Ибо там, перед ним, аккурат поперёк его пути лежала рухнувшая колонна, которая, согласно Гелиобазу, отмечала границу искомого поля! Ещё один взгляд на карту помог определить положение – наконец-то он достиг конца своего путешествия! Сколько же времени? Он взглянул на часы – двадцать минут двенадцатого.
Непонятное, неестественное спокойствие вдруг завладело им, он осмотрел почти хладнокровно раскинувшуюся перспективу перед собой: широкий квадрат земли, покрытый пучками жёсткой травы и зарослями дикого тамариска, – и больше ничего. Это и было поле Ардаф – это голое, неприглядное дикое пространство без единого даже деревца, отмечавшего его край! С того места, где он стоял, просматривалось всё поле, и, оглядев эту пустыню, он улыбнулся слабой, горьковатой улыбкой. Он подумал о словах из древней книги Ездры: «И приказал мне Ангел идти в пустынное поле, и поле было бесплодно и сухо, полно сухих трав, и называлось поле Ардаф. И там я бродил часами долгой ночью, и серебряные глаза поля раскрылись предо мною, и видел я знамения и чудеса».
– Да, это поле поистине «бесплодно и сухо»! – пробормотал он рассеянно. – Но что касается «серебряных глаз» и «знамений и чудес», то они, должно быть, существовали только в набожном воображении пророка, точно как и увенчанная цветами ангелоподобная девушка – в моём. Что ж! Теперь, Теос Олвин, – продолжал он, обращаясь к самому себе вслух, – ты доволен? Вполне ли ты убедился в собственной глупости? И признаёшь ли ты, что прекрасный сон был столь же обманчивым, сколь и все прочие прекрасные на вид вещи, что не дают покоя и мучают несчастную природу человека? Возвращайся к своему прежнему состоянию рассудка и логическому скептицизму – ай, да даже и к атеизму, если угодно, поскольку материализм был прав! Нельзя доказать бытие Бога или возможность существование каких-то безгрешных форм духовной жизни. Так зачем же гнаться за призраком красоты? Слава, слава! Заслужи славу! Этого с тебя довольно в этом мире, а что касается мира иного, то кто сейчас верит в него? А даже веря, кого он волнует?
Разговаривая таким образом с самим собою, он направился на поле Ардаф, решив перейти его из конца в конец. Трава стояла длинная и сухая, однако не производила никакого хруста под его шагами – казалось, он был обут в волшебные ботинки тишины. Он шёл вперёд, пока не добрался до середины поля, где, заметив широкий плоский камень рядом, опустился на него отдохнуть. Поднимался лёгкий туман – прозрачный, окрашенный лунным светом пар, который медленно полз вверх от земли и повисал широкой, нежданно сплетённой кружевной паутиной, примерно в двух-трёх дюймах над землёй, придавая таким образом эффект влажной, светящейся прохлады разгорячённой и обезвоженной почве.
– Согласно апокрифу, Ездра «сел среди цветов», – размышлял он лениво. – Ладно! Вероятно, в те дни здесь и были цветы, однако очевидно, что сейчас их здесь нет. Более мрачного и пустынного места, чем это знаменитое поле Ардаф, я вообще никогда не видал!
В этот самый миг тонкий аромат заполнил неподвижный воздух – аромат, невероятно сладкий, словно фиалки смешались с миртом. Он вдохнул нежный запах, удивленный и смущённый.
– Неужели это цветы! – воскликнул он. – Или какие-то пахучие травы. – И он нагнулся, чтобы исследовать почву под ногами. К своему удивлению, он увидел толстый ковёр соцветий в форме звёзд с глянцевыми листьями и с ярко-золотистыми серединками, на которых крупные капли росы сверкали, словно бриллианты, и от которых исходил аромат, будто фимиам от невидимых алтарей! Он с недоверием смотрел на них почти в ужасе. Неужели они реальны? Неужели это были те самые «серебряные глаза», в которых Ездра узрел «знамения и чудеса»? Или он опять безнадёжно свихнулся от обманов и снов?

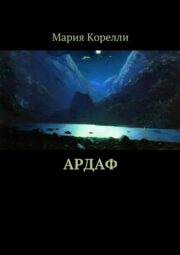
"Ардаф" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ардаф". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ардаф" друзьям в соцсетях.