«Я, должно быть, сошёл с ума или сплю», – подумал он и тут же простёр руки в отчаянном жесте и дико взмолился:
– Клянусь, я ничего не знаю об этом месте! Никогда прежде его ни видал! Со мной случился какой-то обман! Кто привёз меня сюда? Отшельник Эльзир? Развалины Вавилона? Где же?.. Боже! Боже! что это за уродливые игры судьбы!
Солдаты вновь рассмеялись, их командир поглядел на Олвина с долей любопытства.
– Эй, а ты случайно не из числа тех сбежавших любовников Лизии? – спросил он с подозрением. – И не Серебряный ли Нектар изменил своему обычному действию, развеяв твои чувства по ветру, что ты так бредишь? Ведь если ты чужестранец и ничего о нас не знаешь, то как же говоришь на нашем языке? И почему одет, как наш горожанин?
Олвин сжался и задрожал, как если бы получил смертельный удар, ужасающий, непередаваемый ледяной страх заморозил его кровь. Это было правдой! Он понимал язык, на котором с ним говорили! Он был ему в совершенстве знаком – даже лучше, чем его родной язык! Стоп! А каковым же был его родной язык?
Он попытался думать – и чувство страха в его сердце ещё более окрепло: он не мог вспомнить ни единого слова! А его одежда! Он смотрел на неё в смятении и с ужасом – прежде он этого не замечал. В ней имелось некое сходство с нарядом из древней Греции, и состояла она из белой льняной туники и свободного жилета поверх, обе части одежды удерживал вместе пояс из серебра. Из-за этого пояса торчал кинжал в ножнах, квадратная табличка для письма и приспособление в форме карандаша, в котором он немедленно узнал античную форму стилуса. Ноги обуты были в сандалии, руки по плечи голые и в верхней части схватывались двумя широкими серебряными нарукавниками богатого вида.
Отмечая все эти подробности, фантастический ужас всего положения окутал его с удвоенной силой, и он почувствовал себя так, как мог бы чувствовать себя сумасшедший, когда его надвигающееся безумие ещё не окончательно проявилось; когда ещё только гротескные и косвенные намёки смущают его разум; когда отвратительные лики, смутно проглядывающие, выплывают из хаоса его ночных видений; и когда сам воздух кажется плотной тьмой с единственной белой полосой огня, разрывающей его посередине, – и это огонь его собственного приближающегося безумия. Такой агонизирующий бред овладел Олвином в тот момент, что он мог бы съёжиться, рассмеяться, завыть, зарыдать и повалиться наземь в пыль перед этими бородатыми вооружёнными людьми, умоляя пронзить его их оружием на месте и милосердно и сразу же избавить от этого мистического отчаяния. Однако невидимая сила, превосходившая его собственную, удержала его от того, чтобы пасть жертвой мучительных переживаний, и он продолжал стоять прямо и спокойно, как мраморное изваяние, с удивлённым, бледным, жалобным лицом, выражавшим такую неописуемую скорбь, что один офицер, казалось, был тронут и, приблизившись, дружески хлопнул его по плечу.
– Идём! Идём! – сказал он. – Тебе нечего бояться – мы не из тех, кто донесёт на твоё нарушение городского указа, ибо, по правде, сегодня слишком много слухов бродит о молодых и добрых ребятах. Так что ты не первый весёлый любовник и не последний, видевший, как мир перевернулся верх тормашками в безумии любви и ночных пиров! Если ты недостаточно выспался, то проспись как следует, но только не здесь…
Он резко замолчал – послышался отдалённый цокот лошадиных копыт, словно неслись на полной скорости. Солдаты вздрогнули и напряглись, их командир пробормотал какое-то проклятие и, схватив Олвина за руку, поспешно подтолкнул его к медным воротам, которые, как он сказал, стояли распахнутыми и буквально призывали его войти.
– Внутрь, внутрь, парень! – выкрикнул он с грубым добродушием. – Лицо твоё прекраснее, чем у королевского менестреля, так зачем же тебе погибать по вине одной лишней кружки вина? Если это Лизия виной твоего рассеяния ума, то берегись и больше не показывайся рядом с нею: опасно играть с ядовитой змеёй! Убирайся отсюда поскорее и радуйся жизни, у тебя впереди ещё много лет для любовных игр и подобных глупостей!
И с этими таинственными словами он подал знак своим людям следовать за ним, все они прошли через ворота, которые захлопнулись за их спинами с железным лязгом; мрачное бородатое лицо выглянуло наружу через узкое окошко одной из дозорных башен, и низкий голос позвал:
– Что за час?
Офицер поднял руку в перчатке и быстро отвечал:
– Мир и безопасность!
– Приветствую! – снова прокричал голос.
– Приветствую! – ответил офицер и, ободряюще кивнув Олвину и подарив ему улыбку, он провёл свою небольшую команду вокруг него, и все они удалились со смешанным грохотом шагов, выбивавших металлическую музыку, свернув за угол и исчезнув из поля зрения.
Оставшись в одиночестве, первой идеей Олвина было забиться в какой-нибудь тихий уголок и спокойно попытаться понять, что за странная и жестокая вещь с ним произошла. Но, случайно подняв взгляд наверх, он заметил бородатое лицо на башне, наблюдавшее за ним с подозрением, поэтому он заставил себя спокойно зашагать прочь, вперёд и вперёд, едва сознавая, куда шёл, пока полностью не потерял из виду эти огромные, сверкающие золотом ворота, запершие его против воли внутри стен большого, великолепного населённого города. Да, он был безнадёжно растерян и сходил с ума, в чём не было сомнений, и, хотя он снова и снова пытался убедить себя в том, что находился под неким исключительно сильным галлюциногеном, все чувства его свидетельствовали о полной реальности происходящего: он чувствовал, он двигался, он слышал, он видел, он даже начинал ощущать голод, жажду и усталость.
Чем дальше он шёл, тем более впечатляющими становились окрестности. Его никем не направляемые ноги двигались, как казалось, по собственному усмотрению по широким улицам, полностью выложенным мозаикой и с обеих сторон ограниченными высокими, живописными, подобными дворцам зданиями; он переходил с одной стороны бульваров на другую под сенью высоких, пушистых пальм и множества великолепных цветущих растений; он миновал, ряд за рядом, прекрасные лавки, чьи витрины сверкали самыми дорогими и великолепными одеждами всех видов; и когда он бесцельно блуждал вокруг, не зная, куда идти, то постоянно находился в толчее людей, которые наводняли улицы и все были исполнены радости, судя по оживлённым лицам и частым взрывам смеха.
Мужчины по большей части были одеты, как и он, хотя то и дело встречались некоторые, чьи наряды были из шёлка, а не из льна, кто носил золотые пояса вместо серебряных и кто держал кинжал в ножнах, буквально усыпанных драгоценными камнями.
По мере того как он углублялся в центр города, толпа уплотнялась, так что шум транспорта и многоголосый гомон становились почти оглушительными для его слуха. Богато украшенные кареты, запряжённые прекрасными лошадьми и направляемые персонажами, чьи наряды, казалось, прямо-таки горели золотом и драгоценностями, прокатывались бесконечной процессией; продавцы фруктов, тащившие свои великолепные, сочные товары в огромных позолоченных, сплетённых из мха корзинах, стояли почти на каждом углу; девушки-цветочницы, прекрасные, как их цветы, высоко поднимали изящными руками широкие плетёные подносы, переполненные ароматными цветами, увязанными в букеты и венки; и там двигалось бесчисленное множество необычных маленьких квадратных тележек, в которые были запряжены мулы с колокольчиками на ошейниках, и их непрестанный перезвон при движении через толпу создавал неумолчную весёлую музыку. Транспортные средства носили имена торговцев, поставщиков вин и всех возможных видов продуктов, но, за исключением этих столь необходимых дельцов, улицы наводняли ещё и элегантные бездельники обоих полов, которым, казалось, нечем было заняться, кроме развлечений.
Женщины особенно выделялись ленивой грацией манер: они скользили тут и там с беспечной, парящей, непередаваемо привлекательной лёгкостью; более того, многие из них обладали исключительной красотой тела и лица – красотой, которую значительно усиливала художественная простота их наряда. Он состоял из прямого, узкого платья, туго собранного под горлом и стянутого в талии переплетённым поясом из серебра, золота и иногда драгоценностей; руки, подобно мужчинам, были обнажены, и маленькие изящные ступни защищали сандалии, завязанные перекрещивающимися, кокетливо завязанными лентами. Причёска, очевидно, отдавалась на волю вкуса, а не рабского копирования моды; некоторые женщины просто позволяли волосам свободно струиться по плечам; другие туго заплетали их или небрежно связывали в толстый узел на макушке; но все без исключения носили белые головные уборы: платки длинные, прозрачные и тонкие, как кашемир, которые они отбрасывали назад или с радостью заворачивались в них. И вскоре, при виде нескольких таких прекрасных созданий, проходивших мимо с тихим смехом и нежными голосами, внезапное воспоминание всплыло в смущённом мозге Олвина: старое-старое воспоминание, которое, казалось, лежало погребённым среди его мыслей веками; воспоминание об истории под названием «Ламия», написанной в стихах, столь же прекрасных, сколь и умело сыгранная мелодия. Кто же написал эту историю? Он не мог бы сказать, но вспомнил, что в ней говорилось о змее в образе красивой женщины. И женщины в этом странном городе выглядели так, словно они тоже имели змеиное происхождение: было нечто столь же мягкое, и гибкое, и струящееся в их движениях и жестах. Устав от ходьбы, обезумев от всевозрастающего шума и чувствуя себя потерянным в толпе, он, наконец, заметил широкую великолепную площадь, окружённую удивительно статными зданиями, а в её центре находился огромный белый гранитный обелиск, возвышавшийся белоснежной колонной на фоне глубокой синевы небес. У её подножия громоздкий скульптурный лев, тоже из белого гранита, лениво возлежал, зажав между лап щит; и по обеим сторонам играли два красивых фонтана: изящные спиралевидные колонны воды взмывали вверх, выше даже самой вершины обелиска, так что его каменный лик был мокрым и блестящим от радужных брызг.

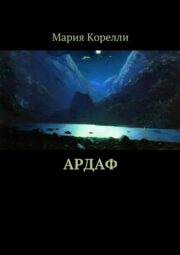
"Ардаф" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ардаф". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ардаф" друзьям в соцсетях.