Ещё один восторженный крик «Хвала Сах-Луме!» взлетел со всех сторон, удаляясь всё дальше, и тогда остатки толпы быстро рассеялись, оставив набережную почти пустой, не считая присутствия нескольких человек, одетых в медного и голубого цветов одежды, которые начинали снимать и скручивать шёлковые тенты, сопровождая свой труд каким-то монотонным завыванием, которое, смешиваясь с медленным, скользящим течением реки, звучало столь же странно и заунывно, как шелест ветра в ветвях облетевших деревьев.
Тем временем Теос в компании своего нового друга начал выражать свою благодарность за недавнее спасение, но Сах-Лума отмахнулся от этой признательности.
– Нет, я лишь послужил тебе, как коронованный Лауреат всегда и должен служить младшему менестрелю, – сказал он с тем неописуемо восхитительным самообольщением, которое было столь эксцентричным и при этом столь обезоруживающим. – И я говорю тебе от всего сердца, что для вновь прибывшего гостя Аль-Кириса твоё первое приключение было весьма неудачным! Отказаться преклонить колени в присутствии Верховной Жрицы во время её Благословения было нарушением наших обычаев и обрядов, опасным для жизни и здоровья! Охваченная религиозным экстазом чернь беспощадна, и если бы я случайно не объявился на арене их действия…
– То я уже не был бы тем человеком, кто я есть! – улыбнулся Теос, глядя сверху вниз на лёгкую, гибкую, элегантную фигуру своего собеседника, когда он грациозно шагал рядом с ним. – Но то, что я не почтил Верховную Жрицу, явилось непреднамеренным недостатком сообразительности у меня, поскольку если это была Верховная Жрица – это ослепительное чудо красоты, исчезнувшее на скользящем корабле в своём триумфальном сплаве вниз по реке, словно бесценная жемчужина в чаше из золота…
– Ай-ай! – и тёмные брови Сах-Лумы изогнулись в лёгком недовольстве. – Не нужно столько красивых слов, умоляю тебя! Ошибиться здесь невозможно – это может быть одна лишь Лизия!
– Лизия! – прошептал Теос мечтательно, и это мелодичное имя слетело с его губ мягким шипящим звуком. – Лизия! А я забыл преклонить колени перед этим очаровательным, прекрасным созданием! О глупец, лесной болван! О чём я только думал? В следующий раз я искуплю свою вину! Неважно, какую веру она представляет, – я расцелую пыль у её ног и этим искуплю свой грех!
Сах-Лума взглянул на него с несколько подозрительным выражением.
– Что? Неужели ты уже уверовал? – легкомысленно спросил он. – И теперь станешь одним из нас? Что ж, тебе поистине придётся целовать пыль у ног твоей дражайшей Лизии. Никаких полумер не достаточно там, где действует она – Неприкасаемая и Непорочная, – и в этом прозвучал слабый намёк на насмешку и одновременно печаль. – Любить её для многих мужчин является совершенной необходимостью, но Целомудренная Жрица Солнца и Змеи принимает любовь подобно статуе: до дрожи трогая других, сама она остаётся холодной!
Теос слушал, едва слыша. Он изучал каждую чёрточку лица Сах-Лумы и его фигуры с пристальным и задумчивым вниманием. Почти бессознательно он сжал державшую его руку, и Сах-Лума вскинул взгляд на него с полуулыбкой.
– Думаю, мы с тобой сойдёмся! – сказал он. – Ты – певчая перелётная птичка с Запада, а я – угнездившийся соловей среди роз Востока, наши пути творения музыки различны – мы не станем ссориться!
– Ссориться! – эхом откликнулся удивлённый Теос. – Нет! Я мог бы поссориться с самым близким и дражайшим другом, но не с тобой, Сах-Лума! Ибо я знаю тебя как истинного короля среди поэтов! Так же как никогда бы не осквернил я святости самой Музы предательством предложенной тобою дружбы!
– В таком случае, – отвечал Сах-Лума, и его яркие глаза вспыхнули неприкрытым довольством, – раз ты обо мне такого мнения, то мы станем надёжными товарищами! Ты говоришь хорошо и не без должной сноровки, я полагаю, что моя слава дошла до тебя даже в заморских краях, где музыка столь же редка, сколь и солнце. Я весьма рад, что случай свёл нас вместе, ибо теперь ты сможешь лучше оценить моё непревзойдённое мастерство переплетения слов! Ты должен быть при мне постоянно во время своего пребывания здесь. Ты готов?
– Готов? Ай! Даже более чем! – вскричал Теос с оживлением. – Но, если я обременяю твоё гостеприимство…
– Обременяешь! – и Сах-Лума рассмеялся. – Не говори мне о бременах! Мне, кто пировал с королями и смеялся над их развлечениями! Вот, – добавил он, когда прокладывал путь через широкую аллею, украшенную великолепными пальмами, – вот вход в моё скромное жилище! Как мне кажется, внутри достаточно комнат, даже если бы ты приехал с целой свитой рабов!
Он указал перед собой при этих словах, и Теос на секунду замер, превозмогая удивление от размеров и блеска дворца, к чьим воротам они как раз приближались. Это было куполообразное здание из чистейшего белого мрамора, окружённое со всех сторон длинной волнистой колоннадой и с просторным двором, вымощенным мозаикой, где восемь обставленных зеленью фонтанов взлетали вверх к жаркому голубому небу непрестанным душем освежающих брызг.
Внутрь этого двора и через него Сах-Лума провёл своего удивлённого гостя. Поднявшись по широкой воздушной лестнице, они попали в обширный открытый холл, где свет струился сквозь бледно-голубое и розовое стекло, что создавало странный и вместе с тем приятный эффект одновременно рассветного и лунного освещения всей сцены. Здесь, опираясь на подушки из шёлка и вельвета, находилось несколько прекрасных девушек в различных ленивых и томных позах; одна смеющаяся темноволосая гурия забавлялась с ручной птицей, которая перелетала с одного на другой из её поднятых пальцев; другая в полусидящем положении играла в кубок и шар с выраженной грацией и ловкостью; другие, собравшись в полукруг возле огромной ивовой корзины, наполненной миртом, были заняты плетением гирлянд из ароматных листьев; и одна девушка, явно моложе остальных и более лёгкого и изящного телосложения, прильнула в некоторой задумчивости к отделанной слоновой костью арфе, словно раздумывая над тем, какие печальные или вдохновляющие ноты ей стоит пробудить в её отзывчивых струнах. С появлением Сах-Лумы и Теоса эти нимфы оставили все свои занятия и развлечения и встали со склонёнными головами, и опустили руки в молчании и смирении каменных статуй.
– Это мои человеческие бутоны роз! – сказал Сах-Лума мягко и весело, когда, держа поражённого Теоса под руку, он проводил его мимо этих сияющих и неповторимых фигур. – Они расцветают и увядают, и погибают, как цветы, брошенные чернью, гордые и счастливые тем, что их тленная прелесть сумела, пусть даже на краткое время, продлиться от соприкосновения с бессмертной славой поэта! Ах, Нифрата! – и он остановился рядом с девушкой у арфы. – Много ли моих песен ты исполнила сегодня? Или твой голос слишком слаб для столь страстного исполнения? Ты бледна. Мне не хватает твоего мягкого румянца и игривой улыбки! Что с тобой, моя модовоголосая иволга?
– Ничего, мой повелитель! – отвечала Нифрата тихим голосом, подняв прекрасные, фиолетовые с паволокой глаза в обрамлении длинных чёрных ресниц. – Ничего, только сердце моё всегда печалится вдали от тебя!
Сах-Лума улыбнулся, весьма довольный.
– В таком случае, да прекратится эта печаль! – сказал он, поглаживая её щёку. – И Теос заметил волну сильного жара, стремительно взлетевшую к её прекрасным бровям при этом прикосновении, словно она была белым маком, согретым до алого цвета горящим жаром солнца. – Мне нравится видеть тебя весёлой – веселье к лицу молодым и прекрасным, как ты! Взгляни, сладкая! Я привёл с собою чужака из далёких земель – человека, для которого имя Сах-Лумы, словно звезда в пустыне! Мне необходим твой голос во всём его ярком звучании, чтобы исполнить ему на радость те мои душевные вирши, которые ты научилась петь с такой несравненной нежностью! Благодарю, Гисенья, – обратился он уже к другой подошедшей девушке и, осторожно сняв свой миртовый венок, водрузил на голову новый, только что сплетённый. Затем, повернувшись к Теосу, он спросил: – Ты тоже наденешь венок менестреля, друг мой? Нифрата или Гисенья тебе помогут!
– Я недостоин! – отвечал Теос, склонив голову в низком поклоне, приветствуя двух прелестных девушек, глядевших на него с явно задумчивым удивлением. – Одного цветка из увядшего венка Сах-Лумы для меня вполне довольно!
Сах-Лума разразился смехом, выражая совершенное довольство.
– Клянусь, ты говоришь прекрасно, как истинный мужчина! – сказал он весело. – Хоть ты и неизвестен, но заслуживаешь хвалы за честное признание недостатка таланта! Поверь мне, есть немало хвастливых рифмоплётов в Аль-Кирисе, которые бы много приобрели, позаимствовав частичку твоей скромности! Исполни его желание, Гисенья, – и Гисенья послушно вытащила веточку мирта из того венка, который Сах-Лума носил весь день, и вручила его Теосу с изящным поклоном, – ибо, быть может, эти листья хранят в себе некое волшебство, о котором нам ничего не известно и которое подарит ему прикосновение божественного вдохновения!
В этот момент любопытная фигура прошаркала по великолепному холлу, которая принадлежала маленькому старичку, несколько потрёпано одетому; на его морщинистом лице показалась застывшая злобная улыбка, как у насмешливой греческой маски. У него были маленькие блестящие глазки, располагавшиеся очень близко к переносице огромного загнутого носа; его тонкие, жиденькие седые волосы редкими прядями падали на согбенные плечи, и он нёс высокую трость, помогая своим неловким шагам, – трость, которой он и производил пренеприятнейший шаркающий звук по мраморному полу, проходя мимо.
– А, сер бродяга! – вскричал он резким, скрипучим голосом, как только заметил Сах-Луму. – Снова вернулся со своей развлекательной прогулки по городу! Осталась ли ещё хоть одна несчастная душа в Аль-Кирисе, чей слух не оглушили попугайские выкрики имени Сах-Лумы? Если так – к нему, к нему, мой уточнённый певец томительных трелей! К нему – штурмовать его чувства беспричинным потоком хвастливых рифм! К нему, бессмертнейший из бессмертных! Бард всех бардов! Раздави его четверостишиями и шестистопными ямбами! Бей его белым стихом с чёрным смыслом! Хлещи его балладой и сонетом, пока измученный несчастный, взывая к милосердию, не поклянётся, что не рождалось ещё истинного поэта до великого Сах-Лумы и никогда не будет после него на лике трепещущей и поражённой земли!

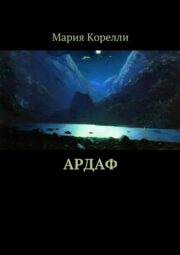
"Ардаф" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ардаф". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ардаф" друзьям в соцсетях.