– Зефораним! Спаси меня скорее! Убей Сах-Луму!
И тогда Зефораним мгновенно выхватил сверкающий кинжал и вонзил его в грудь поэта – Сах-Лума замертво пал на каменный пол, алая кровь окрасила черты его прекрасного лица. Теос в ужасе и отчаянии бросился на помощь к своему другу, не глядя более ни на короля, ни на Лизию, но было уже поздно! Сах-Лума погиб. Внезапный чудовищный крик Лизии заставил Теоса вновь обернуться, и глазам его предстало зрелище, от которого кровь застыла в жилах! Огромная змея востребовала своё: безжалостная охотница Лизия сама стала добычей! Змея одним стремительным броском обвилась вокруг тонкой талии той, кому привыкла безропотно подчиняться, и начинала всё плотнее и плотнее сжимать кольца в удушающих объятиях. Зефораним отчаянно пытался высвободить возлюбленную, сражаясь с сильными мускулами змеиного тела, но всё напрасно! И в следующий миг высокий столб пламени сокрыл от Теоса всю эту ужасную сцену борьбы, взметнувшись под самый свод купола, и больше он ничего не мог разглядеть. Тогда, нечеловеческим усилием подняв на руки тело своего драгоценного друга, он начал прорываться к выходу.
На секунду Теос растерялся, оказавшись в кольце огня и беснующейся толпы, ослеплённый кошмаром происходившей катастрофы. Но вскоре он заметил небольшой арочный свод сбоку и ступени, уводившие куда-то вниз, прочь из этого ада. Теос вспомнил тогда слова старого Хранителя Зуриела о том, что тайная сеть туннелей сообщается с внутренним двором Храма. Во второй раз двигаясь по длинному каменному проходу, Теос не раз останавливался, чтобы перевести дух, а однажды оглянулся назад, но увидел там лишь отблески красного пламени – Храм теперь уже весь пылал, превратившись в горящую груду камней.
Выбравшись наконец наружу, он оказался в саду Храма, откуда на все четыре стороны света открывался широкий обзор, и тогда Теос к своему ужасу понял, что не один только храм Нагая, но и весь город Аль-Кирис уже пылал в огне! Дворцы, купола, башни и шпили подверглись алому разрушению – огонь, огонь повсюду! Ничего кроме огня! И только яростные порывы ветра доносили до него со стороны города чудовищные облака дыма. Он возвёл глаза к небесам, думая про себя о том, каким же чудом удалось ему выбраться из этого адского пекла? И если все эти люди, погибающие теперь в городе, были обречены, то почему же ему даровано было спасение?
– Сах-Лума, Сах-Лума, – прошептал он с горечью, – друг мой!
И, сложив ледяные руки друга у него на груди в форме креста, он с любовью поцеловал их и залился горькими слезами от печали по своей утрате.
– О великий Бог! – молился он. – Ты, которому всё возможно, просвети моё сердце! Я лишь пыль пред твоим величием! По своему бесконечному милосердию научи же меня тому, что я должен делать теперь!
И он в последний раз прижался губами к изящным рукам друга, нечаянно коснувшись таблички для письма, что так и осталась висеть на поясе поэта. Теос знал, что на ней были начертаны последние двадцать строчек стихов – окончание «Нурельмы», написанные в саду! Отчаяние заполнило душу Теоса до предела, и тогда силы начали оставлять его, разум поплыл… Внезапный серебристый звон колоколов раздался в его ушах, а с ним прилетел и тоненький голосок, поющий: «Господи помилуй! Господи помилуй!» И тогда Теос повалился без чувств на твёрдую землю, издав глубокий, долгий вздох… А затем очнулся!
Глава 21. Рассвет
Он был на поле Ардаф. Только что забрезжил рассвет. Восток расширялся на горизонте, озаряясь тёплым золотым светом, и по всему небу протянулись голубые и серые полосы, словно обрывки погибших военных знамён. Над ним горела утренняя звезда, белая и блестящая, как серебряная лампа. А позади него – ясные, чёткие очертания знакомой фигуры светились розоватым блеском небес, руки её были сложены на груди, а нежные глаза, исполнены бесконечной нежности и сочувствия – Идрис стояла на коленях рядом с ним. Идрис – его ангел с короной из цветов на голове, кого он видел улетавшей прочь в вышину, как голубя во славе небесного креста!
Потрясённый произошедшей переменой, он лежал неподвижно, боясь шевельнуться или заговорить! Сознание его постепенно прояснялось, все неясности исчезали одна за другой из его разума, и вскоре торжественное спокойствие и тишина заполнили его душу. Он поверил в то, что пересёк границу смерти и вступил в Царство Небесное! Постепенно память стала возвращаться к нему, он осознал кто он и где он, хотя ещё не обрёл достаточной уверенности в происходящем: Теос Олвин, человек из девятнадцатого века от Рождества Христова, а не человек, живший за пять тысяч лет до этого события.
– Идрис!
– Любовь моя!
Он немного привстал и внимательнее присмотрелся к ней; она улыбнулась ему своей чудесной, задумчивой, умиротворённой улыбкой.
– Идрис, ангел мой, скажи мне, я видел сон?
– Не бойся ничего, любимый! Ты проспал всего одну ночь на поле Ардаф, в долине видений! Но вот прошла ночь, – и она указала на забрезживший на горизонте рассвет. – Вставай же навстречу новому дню!
Он вскочил, повинуясь её словам.
– Идрис, бессмертная Идрис! Я твой! Я знаю тебя, но – о боже! – кто же я? Пылинка твоего дыхания, полное ничтожество, сознающее только сейчас свою ничтожность! Идрис, ты не можешь любить меня! Я не достоин твоей любви! Пожалей меня, прости меня и благослови во имя Божие, но любить – у меня нет на это права!
– Мой Теос, все Небеса сейчас дивятся твоему добровольному смирению! Трон твой в Божественных сферах долго пустовал, а корона не была востребована! Ты тоже ангел, как и я! Но только я свободна, а ты ещё связан земными узами Печальной Звезды! Но ты продолжишь свои поиски и познаешь Истину! Дух твой, озарённый благородным смирением и раскаянием, поднялся до новых высот, с которых ты теперь сможешь проникнуть в чудесные невидимые миры! Не говорила ли я тебе, что ты будешь учиться на ошибках прошлого? Понял ли ты значение своего видения об Аль-Кирисе? Ты видел прошлое воплощение славы поэта – ты и был Сах-Лумой! И все лавры его славы были твоими! И город Аль-Кирис Великолепный со всеми его богатствами обладал большим могуществом, чем любой из современных городов на Земле. Христос не являлся туда, но Бог говорил через своих пророков, таких как Хосрула. Он взывал к тебе, но ты его не слышал, будучи увлечённым вещами земными, но всемогущий Бог не допустил твоей бесплодной гибели! Хоть грешный город и погиб в пламени, и Сах-Лума вместе с ним, но дух его возродился в тебе, и ты продолжишь начатое им дело! Сегодня ты воссоздашь ту самую музыку поэзии, что так и не прозвучала в Аль-Кирисе в прошлом! Иди и пиши! Работай не ради денег, славы или почестей, а во имя Всевышнего Бога, который проявил к тебе такое великое милосердие, что показал через меня целый эпизод из твоей прошлой жизни! Это тебе урок – так используй его с честью! Трудись во имя нашей любви, и тогда в конце концов мы будем вместе. А пока я снова вынуждена оставить тебя одного, мой любимый!
– Идрис, но разве не можешь ты быть здесь, со мной? – протянул Теос руки в мольбе.
– И отказаться от моей Райской обители на Небе? Нет, Теос, этого я не сделаю даже ради тебя! Иди и твори! Неси людям истинную жемчужину поэзии, какая ещё не являлась среди смертных прежде! А я буду ждать тебя на Небесах!
Как раз в этот миг солнце царственно взошло на небеса, раздвинув красные и золотые завесы на востоке, и в этом свете фигура Идрис обрела розоватые очертания и стала прозрачнее, пока совсем не растаяла в воздухе. Теперь Теос знал, что чудеса случаются! И, более того, они нисколько не нарушают материальных законов природы, а свидетельствуют об их истинности и божественном происхождении.
Он остался один – один на поле Ардаф! Собравшись с мыслями, Теос успокоился и пришёл к твёрдому выводу: ему дарован второй шанс для того, чтобы искупить всю прошлую жизнь! Отныне он будет использовать свои дарования во благо, в помощь и утешение тех, кого он любит, а не ради собственного эгоизма!
– Моя Идрис! – прошептал он. – Тебе не придётся более плакать на Небесах из-за меня! С помощью Божьей я верну своё растраченное небесное наследие!
При этих словах взгляд его упал на землю, покрытую белоснежными цветами. Он аккуратно сорвал один нежный белый ароматный цветок и приколол его к своей груди. Затем медленным, нетвёрдым шагом он добрёл до края поля Ардаф, отмеченного полуразрушенной колонной из красного гранита, о которой упоминал ему ещё Гелиобаз. Оттуда он направился к своему временному пристанищу у Эльзира, жившего неподалёку от руин Вавилона. Вскоре он увидел и самого Эльзира, который, кажется, собирал травы рядом со своей хижиной. При его приближении старик поднял глаза и улыбнулся в своей манере, решив, что гость только возвращается с утренней прогулки. Поздоровавшись, Теос вошёл в хижину, затем в свою крошечную комнатку, которая одновременно показалась ему такой знакомой и такой чужой! Подняв глаза на распятие на стене, от которого ещё вчера отвернулся с таким презрением и насмешкой, он теперь смотрел на него с невыразимым раскаянием и нежностью. Добрые, серьёзные, терпеливые глаза Спасителя встретили его удивлённый взгляд, и, поддавшись необъяснимому порыву, Теос пал на колени пред изображением Христа. И тогда душа его наконец успокоилась, окунувшись в неземное блаженство и мир. Здесь, с цветком поля Ардаф на груди, он пред лицом Бога решительно посвятил свою дальнейшую жизнь служению добру и в совершенном смирении отдался на волю Божью вовеки веков.
Часть 3. Поэт и ангел
Глава 22. Свежие лавры
Стоял хмурый мартовский вечер. Лондон поглотил меланхоличный туман, слишком плотный, чтобы его хоть ненадолго мог развеять даже внезапный порыв горького восточного ветра. Безостановочно моросил холодный дождь. Со стороны одного дома – старомодного, необычного здания, стоявшего в некотором отдалении от живописной части Кенсингтона, – с особенной силой долетали яростные пронзительные звуки, похожие на некое сумбурное кряхтение и подвывание. И если бы раздосадованный ветер смог прорваться сквозь стены и воплотиться в телесное существо, то он бы увидел, что источником этих полупечальных, полунеистовых звуков был человек по имени Фрэнк Виллерс, который со столь невероятным пылом теперь настойчиво сражался с виолончелью. Свой инструмент он обожал, и чем более неуправляемым тот становился в его руках, тем сильнее он его любил. Однако одно обстоятельство делало ему честь в этой связи: Фрэнк никогда не выступал на публике, никто никогда не слышал его игры – он наслаждался своим излюбленным увлечением в одиночестве и вполне довольствовался уже тем, что при случае, когда разговор заходил о музыке, он получал возможность сказать с намеренно скромным видом: «Мой инструмент – виолончель». Этого ему было довольно, и если кто-либо просил его продемонстрировать свой талант, то он легко отклонял такую просьбу со столь изящной робостью, что многие воображали при этом, что он, должно быть, поистине великий музыкант, которому недоставало лишь наглости и апломба для того, чтобы прославить своё имя.

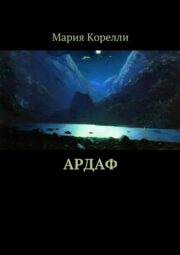
"Ардаф" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ардаф". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ардаф" друзьям в соцсетях.