– Можно подумать, что все эти люди и впрямь любят меня! – сказал Олвин одним утром, с отвращением выбрасывая в корзину письмо от одной исключительно непристойной особы, известной своими вульгарными похождениями в обществе. – Но при всём этом они ничего обо мне не знают. Я мог бы быть самым отъявленным негодяем, однако при том, что мне удалось написать «успешную» книгу и я стал «кем-то» в литературном мире, им нет дела до моих вкусов, морали и положения! Если вся слава этого мира такова, то могу с уверенностью сказать, что она отдаёт весьма тошнотворной вульгарностью!
В этот момент стук в дверь прервал его размышления. Слуга вошёл, неся дорогой конверт с гербовой печатью и золотыми краями. Виллерс, кому он был адресован, раскрыл его и начал читать.
– Это приглашение от герцогини де ла Сантосье. Она просит нас отужинать с нею на следующей неделе – будет вечеринка на двадцать человек, а затем приём. Думаю, нам лучше его принять, что скажешь?
– Всё что угодно для тебя, друг мой! – весело отвечал Олвин. – Но я понятия не имею, кто такая эта герцогиня де ла Сантосье!
– Не знаешь? Ну, она англичанка, вышедшая замуж за французского герцога. Он самодовольный старик, весьма учтивый и прекрасный образчик совершенного эгоизма. Истинный парижанин и, конечно же, атеист, весьма убеждённый атеист, уверенный в собственной непогрешимости. Жена его пишет романы, которые слегка похожи на произведения Золя, она чрезвычайно остроумная и острая на язык дама, обладающая редким хладнокровием. Она питает невероятное уважение к гению, потому что и сама представляет собою образец редкой непосредственности. В её доме всё самого лучшего качества, и люди, которых она принимает, тоже самого высшего сорта. Её приглашение станет, по крайней мере, одним из самых искренних из всех полученных тобою, так что я думаю, несмотря на твою любовь к уединению, тебе следует показаться у неё.
– Твоё описание меня не сильно привлекает, – с сомнением отвечал Олвин. – Я не выношу порождённых девятнадцатым веком женщин-гермафродитов мужеподобного сорта.
– Но она совсем не такая, а наоборот, чрезвычайно прекрасна!
Олвин пожал плечами с безразличным видом. Его друг, завидев скептический жест, рассмеялся.
– По-прежнему равнодушен к женским чарам, старина?
Олвин слегка вспыхнул.
– Не совсем, – отвечал он спокойно. – Были времена, когда физическая красота могла серьёзно увлечь меня. Однако сейчас, если твоя герцогиня окажется такой, как королевская дочь из псалмов Давида, – прекрасная снаружи, но прогнившая изнутри, – то вся её прелесть нисколько на меня не подействует. А теперь, если ты не против, я закроюсь в своей комнате на часок. Заходи ко мне, если соскучишься, ты нисколько меня не побеспокоишь.
Однако Виллерс удержал его, не спуская с него вопросительного взгляда.
– В тебе появилось некое исключительное качество, Олвин, – сказал он с подозрительным видом, – нечто таинственное, притягательное. Что же это такое? Думаю, что твоё путешествие к руинам Вавилона имело более серьёзные последствия, чем ты мне признаёшься. Думаю, ты влюблён!
– Влюблён! – Олвин рассмеялся. – Какой глупый термин, заранее подразумевающий возможность «выйти из» этого чувства! Скажи лучше, что я люблю! И будешь ближе к истине. А сейчас не нужно ни о чём меня расспрашивать, сегодня же вечером в библиотеке я поведаю тебе всю историю моего приключения в Вавилоне!
И, махнув на прощание рукой, Олвин вышел из комнаты, а Виллерс прислушивался к его шагам по лестнице на пути к его комнате наверху, где он завёл обыкновение каждое утро в течение двух-трёх часов непрестанно что-то писать. С минуту Виллерс постоял, прислушиваясь, а затем повернулся к столу, чтобы сочинить герцогине положительный ответ на её приглашение.
Глава 25. Против всех
Прекрасная и популярная в обществе герцогиня де ла Сантосье восседала за своим великолепно накрытым столом и сверкала ярким взглядом вокруг себя – её гости были в сборе. Она выбрала двадцать самых известных мужчин и женщин со всего Лондона, и всё же не была всецело удовлетворена полученным результатом. Ибо одно серьёзное, прекрасное лицо справа от неё затмевало шикарный лоск всех остальных – одна спокойная, учтивая улыбка автора «Нурельмы», успешного поэта, чьё согласие явиться сюда она так легко заполучила, но который оказался человеком совершенно иного сорта, чем она могла ожидать, так что теперь она решительно не представляла, что ей с ним делать. Это был тот тип, к которому она оказалась не готовой, в чьём присутствии ощущала теперь неловкость и почти дискомфорт. И герцогиня была далеко не единственной в своём смущении. Появление Олвина стало своеобразным откровением для собравшихся здесь томных, модных гостей, которые теперь обменивались удивлёнными взглядами, отмечая непохожесть этого человека на общеизвестный тип нервозного, измотанного, диспепсического литератора!
А он тем временем, совсем не замечая того эффекта, который производил своим присутствием, гадал, отчего этим высокопоставленным особам совершенно не о чем поговорить. Темы их диалогов были банальны и скучны: погода, парки, театры, новые актрисы…
Герцогиня тем временем всё более и более внутренне раздражалась, и её маленькая ножка нетерпеливо выстукивала под столом нервную барабанную дробь, пока она учтиво отвечала на незначительные реплики собравшихся, то и дело бросая раздражённые взгляды на своего мужа-герцога – худого, похожего на военного человека с напомаженными усами, чьё лицо напоминало невыразительную маску. Это лицо не говорило абсолютно ни о чём, и всё же за завесой его бесстрастности горел живой, гражданский ум, рождённый воспитанием Парижа. В этот особенный вечер герцог притворялся, будто не замечал острых взглядов своей прекрасной супруги, которые, казалось, говорили: «Отчего ты не предложишь какой-нибудь интересный предмет для обсуждения, чтобы объединить все эти разрозненные реплики собравшихся за столом?» Герцог был восхищён физической силой и красотой Олвина, его благородным лицом и прекрасной фигурой, хотя о гении поэта он ничего и не знал. Для него было довольно и того, что все считали его блистательным писателем, и неважно было, насколько он в действительности заслуживал такой оценки.
Виллерс, чьё остроумие и красноречие обычно украшало подобные вечера, сегодня тоже был необычно молчалив. Он выслушал всю историю о поле Ардаф и теперь не знал, как ему к ней относиться, так что, в конце концов, он пришёл к простому логическому объяснению: транс в монастыре Дарьяльского ущелья совместно с чтением отрывков из книги пророка Ездры породили в живом воображении Олвина необычайное видение, которое тот принял за реальность. Виллерс тактично сообщил другу о своих сомнениях, но два момента по-прежнему не давали ему покоя: во-первых, что друг его заметно переменился к лучшему, из саркастичного, угрюмого и разочарованного в жизни человека превратившись в свободную и счастливую цельную личность; во-вторых, он поистине более не заботился о своей славе, воспринимая её с детской непосредственностью. Наконец, Виллерс видел, что Олвин вновь пишет поэму, грандиозность замысла и красота слога которой поразили его уже при беглом взгляде.
Его друг-поэт сидел теперь, слегка откинувшись на спинку стула, с видом отчасти разочарованным и немного удивлённым, как бы молчаливо вопрошая: «И это и есть твоя блистательная герцогиня? Твоё культурное и остроумное общество?»
– Боюсь, – с улыбкой начала разговор герцогиня, обращаясь к Олвину, – что наше общество кажется вам скучным после вашего путешествия за границу? Поистине, здешний климат очень угнетает, если бы только у нас было больше солнца, мы непременно стали бы веселее, подобно людям восточным, не правда ли?
– Напротив, я нахожу восточных людей весьма серьёзными и строгими в отношении образа жизни, который они ведут, – отвечал Олвин. – Они воспринимают свою жизнь как непрестанное служение своему божеству, причём даже будучи бедными, в то время как англичане при всём обилии вещей и богатств часто забывают о самоценности жизни.
– Но что такое жизнь без денег? – удивилась герцогиня. – Уверена, такая жизнь не стоит борьбы за неё!
Олвин одарил герцогиню пристальным взглядом, но спорить отказался.
– Это аргумент, который я не хотел бы оспаривать, поскольку подобная дискуссия способна завести нас довольно далеко, – отвечал Олвин. – Я лишь замечу, что жизнь всегда стоит борьбы, если только человек живёт правильно.
– Пожалуйста, поясните, как это вы отделяете жизнь от мирских благ? – спросил его насмешливого вида джентльмен напротив. – Жизнь и есть мир, и все вещи в нём; когда мы теряем мир, то теряем и самих себя – умираем, короче говоря. И на этом всё кончается. Такая вот практическая философия.
– Может быть, это и зовётся философией, – возразил Олвин, – но это не Христианство.
– О, Христианство! – прыснул этот джентльмен с презрением. – Это же система верований, которая уже отмирает! Фактически, у научных и культурных слоёв общества она уже отсутствует.
– Неужели? И какую же замену религии предлагают сегодня этим научным и культурным слоям общества?
– Нет надобности ни в какой замене! – довольно нетерпеливо заметил джентльмен. – Для тех, кому так нужно верить в сверхъестественное, есть множество различных идей – эзотерика, буддизм, вера в науку, например, однако для наиболее серьёзных мыслителей религия вовсе не нужна.
– Нет, думаю, нам всё же необходимо чему-либо поклоняться, например собственному эгоизму! – усмехнулся Олвин. – «Я сам» – это великолепное божество! Весьма удобное и всегда готовое простить любой грех! Отчего бы нам не начать строить храмы и возводить алтари во славу и честь собственного Я?
Его саркастический тон заставил всех гостей внимательно прислушаться к разговору, а сердце Виллерса гулко застучало в груди, ибо он понял, на какую зыбкую почву ступил его друг в дискуссии с этими людьми, насквозь пропитанными атеизмом и готовыми насмехаться над самой идеей религиозности человека. Он сам ненавидел споры о вере, но в то же время он знал, что люди, истинно убеждённые в своих взглядах, никогда не теряют лица в таких ситуациях. Герцог тем временем повернулся с очаровательно важным видом в сторону Олвина.

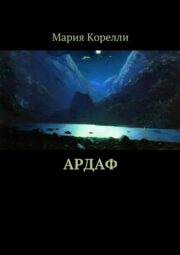
"Ардаф" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ардаф". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ардаф" друзьям в соцсетях.