Наконец автомобиль притормозил возле неприветливого серого здания, обнесённого по периметру кованым забором. Катя предпочла подождать в машине, а Юра вызвался сопровождающим. Выяснив, куда идти, Маша понеслась в сторону нейрохирургии так, что Юра не мог за ней угнаться, но перед дверью в отделение она остановилась. Её била крупная дрожь, совладать с которой она никак не могла. Юра приобнял её:
– Ну, ты чего?! Эй. Перестань. Не стоит себя винить, дурочка! Успокойся! Сказал же полицейский – ты ни при чём…
Маша лишь кивнула и, переведя дух, потянула за массивную металлическую ручку.
– Куда? – преградила путь перекособоченная пожилая санитарка с лицом цербера.
– Скажите, послушник Алексей Колосов в какой палате? – робко спросила Маша.
– Это какой? С батюшкой который, что ли?
– Да-да.
– К нему нельзя. Он в коме, – отрезала санитарка.
– Почему нельзя? – переспросила Маша.
– В реанимационные палаты пускают только близких родственников и то ненадолго, – безапелляционно выдала санитарка, уперев руки в боки. – Вы – близкая родственница?
Юра подхватил Машу под локоть:
– Ну, нельзя так нельзя. Пойдём.
Маша выдернула руку и резким движением достала из сумочки кошелёк. Она протянула санитарке две тысячные купюры и сказала, подчёркивая каждое слово:
– Я – очень близкая родственница.
В коридоре было пустынно, и санитарка не стала спорить с предъявленным аргументом, составлявшим почти половину её месячного заработка. Впрочем, она не преминула заметить:
– Проходить можно только в халате и в бахилах. Бахилы у нас по пять рублей.
Маша сунула кривой санитарке ещё десятку и наспех натянула дежурный халат.
– А молодой человек? – спросила привратница уже совсем любезно.
– Он не идёт, – бросила Маша и обернулась к Юре: – Прости, я должна сама…
Тот пожал плечами и развернулся к выходу.
Шурша синим полиэтиленом бахил, надетых поверх кроссовок, Маша пошла по коридору вслед за припадающей на одну ногу санитаркой. Та, словно оправдываясь за взятые деньги, по дороге рассказывала посетительнице, что молодые здесь работать не хотят, оттого ей, хромой и немощной, приходится в две смены выходить, а платят так, что аж самой стыдно бывает…
Реанимационные палаты были выделены в отдельный стеклянный бокс. Санитарка распахнула перед посетительницей дверь и вполголоса сказала, указывая в глубь узкого помещения:
– Совсем молоденький… Жалко. Ну, побудьте. Не трогайте ничего.
Дверь закрылась. Маша осталась одна перед высокой реанимационной кроватью, на которой лежал Алексей. Только это был совсем не он – не тот красивый, то мрачный, то презрительный, то сдержанно улыбающийся или восхищенный юноша. С содроганием Маша смотрела на недвижимое тело, почти полностью скрытое под гипсом и повязками, опутанное трубками, ведущими ко множеству аппаратов. Пергаментное лицо Алёши, несмотря на наложенные местами швы и выцветшие следы йода, напоминало изображения святых мучеников на потемневших от времени деревянных иконах. Сухие полуоткрытые губы были покрыты запёкшимися кровью трещинками.
Судорожно сглотнув, Маша подошла поближе. Она достала из сумочки влажную салфетку и трясущейся рукой отёрла его лоб, поправила простыню. Испуганная, подавленная, она не знала, что делать.
Её глаза коснулись кончиков Алёшиных пальцев, виднеющихся из-под жёсткого панциря гипса на правой руке. Она опустилась на колени и со страхом дотронулась до них, чувствуя еле уловимое, но всё же живое тепло.
– Прости меня, Алёша, – проговорила она скорее для себя, чем для него, ибо ощущение непоправимой ошибки многотонной глыбой наваливалось на неё и становилось невыносимым.
Слова облегчения не принесли. И, раздавленная созерцанием умирающего парня, Маша продолжала сидеть на полу, поджав ноги, осторожно поглаживая натруженные, мозолистые фаланги пальцев Алёши с короткими совсем ногтями, боясь неосторожным движением сделать ему больно, хоть он, очевидно, ничего и не чувствовал.
Вдруг дверь распахнулась, и на пороге показался отец Георгий.
– Ты что здесь делаешь?! – громко возмутился он.
Маша поднялась навстречу, хотела ответить, но лишь заплакала, закрыв руками лицо.
Священник недобро сказал:
– Раньше надо было плакать. И думать.
Маша вытерла слёзы и попробовала оправдаться:
– Вы уже слышали, что он не пытался с собой покончить? Есть свидетели, что Алёшу столкнули…
– Не важно, – священник был неумолим, – уверен, что в любом случае не обошлось без страстей, с тобой связанных. Я знаю таких, как ты, – молодых и наглых. Думаешь, всё дозволено, и Закон Божий не про тебя писан? Посмотри на результат, – кивнул отец Георгий на тело Алексея. – Довольна?
– Но я не… – начала было Маша.
– За вертолёт – спасибо. А говорить нам с тобой не о чем, – отрезал священник и добавил: – Живи как знаешь, делай, что заблагорассудится. Бог тебе судья. Но здесь тебе не место! Уходи!
Маша выползла из палаты, как побитая собака, и вдруг сорвалась – побежала со всех ног. Юра поймал её на выходе из отделения:
– Тпру, стой! – рявкнул он, стиснув её предплечья. – Эй, Маруся! От кого ты так убегаешь?
Она тяжело дышала, словно пробежала не двадцать метров коридора, а целый марафон, но всё-таки ответила:
– От себя…
Юра кивнул:
– А теперь остановись. Посмотрела? Живой?
– Не совсем…
– Но не мёртвый. Я тут попа этого видел. Это он небось тебе гадостей наговорил?
– Он правильно сказал, – горько признала Маша.
– О-о! А вот это уже надо лечить, – покачал головой Юра. – Вернёмся в Москву. У меня есть знакомый психолог – потрясный дядька. А может, и так обойдёмся. Да, Марусь?
– Боюсь, такое не лечится…
– Да брось, лечится всё: даже сифилис и менингит! – хмыкнул Юрка.
Маша попыталась его затормозить.
– Ну, что ещё? – буркнул он.
– Мне бы с лечащим врачом поговорить – я ж не знаю ничего о состоянии Алёши, видела только – лежит, как мёртвый…
– Я уже поговорил.
– И что? Есть хоть какие-нибудь шансы?
– Мизерные. Твой любимый маньяк переломал почти все кости и позвоночник в двух местах. Док сказал, что собирали его по кусочкам, как могли, – операция семь часов шла. А насчёт того, выкарабкается или нет, ничего сказать не может. Но даже если и выживет, инвалидом будет наверняка. Овощем.
– Но какие-то лекарства, может, нужны… – пролепетала потрясённая Маша.
– Если даже нейрохирург говорит, что в таком случае главное – молиться, – заметил Юра, – то самое серьёзное лекарство сейчас сидит при нём. А ты не мешай.
– А если купить что-то надо будет? – волновалась Маша.
– Во, блин, мать Тереза! – вспылил Юра. – Он кто?! Монах…
– Послушник, – поправила Маша.
– Один фиг. За всё платит епархия, РПЦ то бишь. Они своих не бросают. Я спрашивал, – пояснил Юрка. – Или ты думаешь, у тебя денег больше?
– Нет.
Под уговоры и виртуозное заговаривание зубов Юра наконец смог вывести Машу за пределы больницы. С шумом распахнув заднюю дверцу, он передал в Катины руки плохо соображающую Машу.
Семёновны муж встряхнул головой, видимо задремавши в ожидании, и громко чихнул. Юра сел вперёд и быстро скомандовал:
– В аэропорт.
Глава 22
Дома
Двухчасовой полёт и почти столько же времени на такси прошли для Маши будто в забытьи. Катя и Юрка тормошили её, спрашивали что-то, она отвечала и снова уходила в себя, уставившись на облака, мыльной пеной взбитые под авиалайнером, а потом на привычный московский пейзаж с берёзами, торговыми центрами и пёстрыми билбордами вдоль дороги, запруженной транспортом ещё до въезда в город.
Наконец такси остановилось перед Машиным подъездом. Она включилась. Старательно улыбаясь, она чмокнула друзей на прощание и отказалась от помощи, уверяя, что всё в порядке, ей только выспаться надо. И это было правдой, Маша просто не договаривала о том, что мечтает не проснуться…
Выронив сумку в прихожей и скинув кроссовки, она вошла в светлую просторную студию, одну стену которой под самый потолок покрывали зеркала. Маша увидела своё отражение – привидение с ярко-рыжими волосами – нелепыми, будто нацепленный наспех парик, – альтер эго из параллельной реальности. Маша отвернулась – смотреть на себя было неприятно. Она опустилась на диван. Всё. Не надо больше идти, бежать, ехать, держаться из последних сил. Она была дома. Одна, наконец. Сама с собой.
Ветер теребил пастельно-зелёные занавески, надувая в комнату холодный воздух, но Маша не закрыла пластиковую раму окна. Она легла на диван, не раздеваясь. Под тяжёлой головой напитанная прохладой декоративная, с греческим золотым орнаментом подушка постепенно согревалась. Забравшись под шерстяной плед, Маша свернулась калачиком и уснула.
Её мучили обрывки мыслей в кошмарных метаморфозах снов. То Марк заходился в гомерическом хохоте, срывая с неё одежду на площади перед ревущей толпой, то Юнус бегал вокруг мёртвого Алёши, приговаривая: «Так красивенько… так красивенько», то Лёня с Юрой тащили за руки бездыханного послушника к пропасти, то группа монахов и священников гнались за Машей с палками, крича: «Изыди, сатана!» Маша глотала солёные слёзы во сне и наяву, мечась от одной страшной сцены к другой. И вдруг провалилась в темноту. Только маленькая точка светилась в беспроглядной темени. Маша пошла на неё и оказалась возле большого дома. Пытаясь найти вход, она касалась пальцами холодного, щербатого камня стен, местами поросшего чем-то мягким и склизким. В доме не было ни окон, ни дверей. Узкая щель привиделась между двумя камнями. Мерцающий, неуверенный свет выбирался наружу. Маша прильнула к щели глазами: там на полу посреди каменного мешка сидел Алёша. Он был гол и растерян. Маша крикнула в щёлку: «Алексей! Алёша!», но голос её растворился во мраке и в каменный мешок не попал.

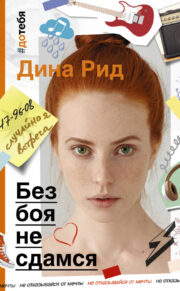
"Без боя не сдамся" отзывы
Отзывы читателей о книге "Без боя не сдамся". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Без боя не сдамся" друзьям в соцсетях.