И тут мое внимание привлекло пугало.
Ловко.
Все в этом саду было аккуратно подрезано, пострижено, ухожено, все сорняки выполоты, и только пугало не вписывалось в эту идеальную картину, царапая глаз заплатой из мусора и кусочков ткани, соединенных проволокой и бечевкой. Руки и ноги были сделаны из обрезков полихлорвиниловых труб, на каждом из них висели соединенные рыболовной леской пластинки из алюминиевой фольги. Выглядели эти пластинки так, словно сначала по ним проехал трактор, а потом их пожевала газонокосилка. И развешаны они были кое-как, бессмысленно и бездумно. Голову несчастного страшилы изображал вертящийся медный флюгер. Некогда круглый, как вентилятор, он был согнут и помят и напоминал леденец. Скошенная набок голова держалась на плечах только за счет плотной обмотки серебристой клейкой лентой. Белая футболка на груди была порвана – ровно в том месте, где положено быть сердцу.
Я поднял глаза и скользнул взглядом по силуэту стены. В нескольких дюймах над ней, на грубо оструганных брусьях, стояли шесть разнокалиберной формы ящиков. Рассмотреть их в темноте было трудно, но под определенным углом – например, с уровня поля – брусья и ящики напоминали прожектора на осветительных вышках. Я поднялся на стену и, раздвинув нависающие ветви дуба, приблизился к первому ящику. Кормушки для птиц, полные корма.
Может быть, Одри и скрывалась от мира, но тот, из которого вышла, она не забыла, и потратила немало времени – лет десять или больше, – воссоздавая один-единственный миг.
Миг, когда весь мир был обещанием и возможностью.
Я сидел, свесив ноги, дивясь на созданный Одри мир, когда ухо уловило скрип распашной калитки. Женщина шла быстро, деловито, не останавливаясь, чтобы вдохнуть цветочный аромат, сбивая на ходу бутоны. В руках у нее была какая-то палка. Тьма почти скрыла женщину, и несколько раз я терял ее из виду в тени фиговых деревьев. На мгновение она исчезла в эндовой зоне, но тут же появилась под Родди, пересекла красную зону, прошла через защиту и направилась к центру поля. Походка быстрая, решительная, твердая и знакомая.
Седьмой класс, национальный чемпионат, четвертая четверть. Мы проигрывали шесть очков. До конца восемнадцать секунд. Их защита выстроила довольно надежный блиц, а моя атакующая линия пребывала в полной растерянности и не знала что делать. На позиции внешнего лайнбекера у них стоял парень по фамилии Брукс, который позже десять лет отыграл в профессиональных командах. Но прежде чем уехать в Даллас, он успел оставить свою метку на мне и отметиться в серии. Каждый раз, когда я поворачивался, этот парень встречал меня лицом к лицу, и я оказывался на спине. В четвертый раз он вынес меня в предпоследней встрече. Я смотрел вперед, выискивая взглядом открытого игрока, и тут он ударил меня исподтишка. Помню, что услышал голос диктора: «Райзина выключили. Райзина выключили». Я не знал собственного имени, не говоря уже о том, что не знал, какая идет четверть, но понимал, что должен подняться до того момента, как на поле выбегут тренеры. Вуд подхватил выроненный мной мяч, и мы провели еще одну атаку, перехваченную, к сожалению, в эндовой зоне. Не самая лучшая моя попытка. Поднявшись – не только с земли, но и с меня, – Брукс исполнил нечто вроде танца, сопровождая его жестами в сторону наших болельщиков, и направился к своему хадлу, чтобы отдать дальнейшие указания. Однако на полпути его сразила стрела, выпущенная от нашей боковой линии. Торжествующую вертикаль словно ножом срезала стремительная горизонталь. Столкновение закончилось для Вуда падением и потерей шлема, но скорее добавило сумятицы, чем нанесло вреда. Когда пыль рассеялась, судьи стащили Одри с его груди, по которой она колотила кулачками, а затем под бурную овацию ста двадцати одной тысячи зрителей, поднявшихся на ноги, убрали из игры. Два полицейских, смеясь, вывели Одри с поля, так что концовку она досматривала из ложи прессы, где ее встретили с распростертыми объятиями. После матча один из репортеров назвал ее коатой, паукообразной обезьянкой. Прозвище приклеилось. Позднее Брукс назвал этот эпизод одним из самых запоминающихся во всей своей футбольной карьере, а годом позже мы с Одри сфотографировались с ним, когда я смог убедить ее, что он хороший парень.
Подойдя к линии скримиджа, Одри бесцеремонно двинула розового Вуда в область желудка. От полученного тычка послушный куст замахал ветками, но остался цел и невредим. Жить будет и еще сыграет. Не обращая внимания на страдальца, она подошла к пугалу, безучастно взиравшему на поле. Пластинки его вертелись, и голова поворачивалась, покорно внимая голосу ветра. Не говоря ни слова, Одри размахнулась и точным боковым в стиле Аарона Хэнка срубила склонившуюся голову страшилы с его уже поникших плеч. От полученного удара флюгарка улетела на трибуны и шлепнулась на колючий куст в районе третьего ряда. Перестроившись, она несколькими короткими и быстрыми ударами оторвала обе руки и безжалостно разделалась с ногами, сопроводив жестокий свинг натужным утробным стоном. Затем, склонившись над останками, принялась рубить куски на мелкие кусочки и, словно этого ей было мало, втаптывать в землю, сопровождая процесс словесными поношениями.
С таким же неистовством она дралась когда-то за меня.
Расчленив злосчастное пугало, выключив его полностью из игры да еще и высказав при этом все, что о нем думает, Одри отошла к скамейке у стены, прямо подо мной, бросила орудие на землю и, тяжело дыша, откинулась на спинку. Будь у меня малина, я мог бы бросить ягодку ей на голову. Прошла минута, другая… Одри подтянула к груди колени и опустила голову. Первые рыдания прозвучали приглушенно, но потом вырвались на волю и эхом отлетели от каменной стены и часовой башни над нами.
Последний раз я слышал такое в зале суда. Неудержимый, полный отчаяния рев вырвался из самой ее души. И тогда, и теперь этот звук резал мне сердце.
Слева от нас, в нескольких сотнях футов, сквозь деревья просвечивали огни школы, мужского и женского общежитий. Я вдруг почувствовал, как давит на лодыжке ножной браслет.
Я соскользнул со стены, спрыгнул на траву в паре футов от нее и немножко ее напугал. Она постарела, глаза казались холодными и почти безжизненными – годы не пожалели ее. По-мальчишески коротко постриженные волосы как будто посерели. Точнее, полностью побелели. Вокруг глаз залегли темные круги. Она похудела. Обручального кольца на пальце уже не было. Одри всегда напоминала мне Эмили Дикинсон. Пронзительные глаза, четко вылепленные губы, соблазнительные изгибы, обольстительный голос. Про голос я бы говорить не стал, но вообще-то, если не обращать внимания на волосы, она почти не изменилась с нашей последней встречи.
Я провел в тюрьме шесть месяцев, когда охранник сообщил, что ко мне пришли.
– Кто такой? – хмыкнул я.
– Одри Майклз.
Меня немного задело, что она назвалась девичьей фамилией. Я сел на стул и стал ждать. Одри вошла, сложив руки на груди, словно заставляя себя сдерживаться. Я поднялся и подался вперед, забыв, что нас разделяет стекло. Звон цепей эхом отскочил от стен. Она осунулась, прилично похудела и выглядела изможденной. После суда мы не разговаривали и вообще никак не общались. Не глядя на меня, Одри опустилась на край стула и слегка откинулась назад, словно отстранилась. Я хотел сказать что-нибудь, как-то смягчить ее боль. Но ее, моей Одри, здесь не было. Минут десять она просто сидела, ничего не говоря. Потом взглянула на меня украдкой и снова опустила глаза.
– Почему?
Что я мог ответить? Снова все отрицать? Ее бы это не устроило. Даже если бы я повторил то же самое в тысячу первый раз.
Я промолчал. Ждал, что она посмотрит мне в глаза. Не посмотрела. Поднялась, постояла, еще крепче обняв себя руками, как будто ее могло вырвать прямо здесь, и вышла.
Вот тогда я и видел ее в последний раз. Одиннадцать лет, сто восемьдесят семь дней и девять часов тому назад.
Я наклонился и поднял палку, увесистую, твердую, шишковатую, отполированную руками, поˊтом и долгой службой. Одри поднялась. Она уже опомнилась, и теперь к ней возвращалась прежняя, холодная, решимость. Нас разделяли два шага. Я протянул палку, как подношение. Голос сухо треснул, но слова не шли.
Наверно, мы уже все сказали.
Она взяла палку, постояла, держа ее на весу, словно раздумывая, и положила на плечо. Потом, когда в ее глазах блеснула холодная влага, вытянула руку и коснулась палкой моей щеки. Подержала несколько секунд. Нижняя губа у нее дрожала. Она открыла рот, как будто собиралась что-то сказать, закрыла и, скрипнув зубами, прижала палку к моему виску. Несколько секунд она стояла так, глядя не столько на меня, сколько сквозь меня. А потом тряхнула головой и сжала палку обеими руками. Я посмотрел ей в глаза и вдруг понял, что если моя жена здесь, то она погребена под миром боли. Собравшись наконец с силами, Одри сунула палку под мышку, как зонтик, повернулась и пошла туда, откуда пришла.
Я смотрел ей вслед, смотрел, как она уходит, оставляя меня в своем саду. И только после ее исчезновения заметил, что по щекам и подбородку текут слезы.
Глава 10
В домике Вуда я проснулся весь в поту еще до света. Над головой шумно трудился вентилятор. Снаружи было тихо. Откуда-то издалека донесся глухой, призрачный крик поезда. После разминки на автомобильной свалке я подошел к раковине и стал бриться. Перед глазами стояло лицо Одри. Дверь приоткрылась. Вуд, просунув голову, кивнул в сторону «кладбища».
– Ты, похоже, не так уж много и потерял. Судя по тому, как взбежал на холм, ноги у тебя еще вполне резвые. Планы есть? Не хочешь поделиться?
Я пожал плечами.
– С некоторыми привычками расстаться трудно.
– Что думаешь делать сегодня?
Я посмотрел на часы на стене.
– У меня четыре часа на регистрацию. Не успею – ребята в форме ждать не заставят.
Вуд взглянул на свои дешевые цифровые часы. Определенно не тот «Ролекс», который я подарил ему перед драфтом.

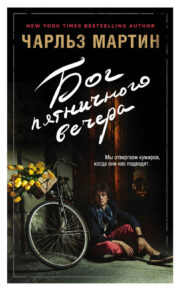
"Бог пятничного вечера" отзывы
Отзывы читателей о книге "Бог пятничного вечера". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Бог пятничного вечера" друзьям в соцсетях.