Я решил обойтись без предисловий.
– Никакая команда со мной не связывалась. Планов посещать встречи или попытаться играть в футбол на организованном уровне у меня нет. – Я выдержал паузу. Какой-то репортер открыл было рот, но я перебил его. – Согласно особым условиям освобождения, заниматься этим мне нельзя.
Недовольные моими ответами, они продолжали забрасывать меня вопросами.
Где вы будете жить?
Чем будете зарабатывать на жизнь?
Останетесь ли здесь?
Я уже подумал, что интервью закончилось, когда над прочими голосами поднялся один. Знакомый, как и лицо, голос принадлежал стоявшей за репортерами Одри. И так жестко прозвучал вопрос, что никто не обратил внимания на нее, но все притихли в ожидании ответа.
Мистер Райзин, что заставило вас предать жену? Что такого особенного предложили вам две несовершеннолетние девочки?
Вопрос вопросов. Вот что терзало и убивало ее душу. Я видел это. Изможденный вид, ввалившиеся щеки, поникшие плечи – все из-за этого.
Толпа притихла. Репортеры нетерпеливо облизывались в предвкушении ответа. Всего один вопрос, и рутинная болтовня внезапно качнулась к сенсации. Одри не стала ждать ответа и, незаметно повернувшись, зашагала к углу здания. Шарф и солнцезащитные очки оказались достаточной маскировкой. Сомневаюсь, что ее узнал даже Вуд.
Между мной и ею стояла толпа, но я понимал, что если останусь на месте, то потеряю шанс. Растолкав собравшихся, я рванул за Одри. Моя жена как раз входила в микроавтобус с надписью «Сент-Бернар», когда я не дал ей закрыть дверь. Рядом тут же появились несколько человек с камерами.
Ждать репортеров долго не пришлось. И теперь число микрофонов, похоже, даже удвоилось. Одри потянула дверцу, но я остановил ее.
– У меня один план – найти мою жену.
Поняв, что жизнь в безвестности за стенами Сент-Бернара, выбранного ею в качестве убежища, может перемениться в ближайшие секунды, моя жена прикусила губу, собралась с силами и процедила сквозь зубы:
– А когда найдете?
– Скажу, что люблю ее. Всегда любил. Только она для меня и важна. Так было всегда.
Она снова потянула дверцу.
– Там были свидетели. Видео. Девочки… они пострадали…
– Од… – Я опустил голову. Этот бой был проигран еще двенадцать лет назад. – Я сказал правду.
Лицо ее напряглось. Одри шагнула из автобуса, не спуская с меня глаз. Репортеры обступили нас, ловя каждое слово, каждую интонацию. Два оператора едва не сцепились в борьбе за более выгодное положение. Ее нижняя губа дрожала. Одри вдруг подняла руку и ударила меня кулаком в грудь. Со стороны это выглядело так, словно ребенок стучит в тяжелую дверь. Дневной свет обнажил ее хрупкость и слабость. Ее злость. Ее многолетнюю муку. Все это отдалось во мне болью.
– Присяжные решили единодушно! – Одри сердито топнула ногой и закричала на пределе сил: – И после всего этого… – Она обвела рукой сгрудившуюся вокруг нас толпу. – И после всего этого ты будешь стоять здесь и врать мне?
Двенадцать лет я ждал этого разговора, но никогда не представлял, что получится вот так.
– Я никогда тебе не лгал.
Я знал, что будет дальше, но остался на месте. Одри собрала все, что накопилось за долгих двенадцать лет, за холодные, бессонные ночи, и ударила меня кулаком в лицо. Рот заполнился едким вкусом крови, но боль я ощутил в груди.
– Ничтожество. – Не удовлетворившись первым ударом, она поскребла в том же банке лет и приложилась к моей физиономии открытой ладонью. Кровь со слюной брызнула на ближайших репортеров. Мало того, Одри еще и плюнула мне в лицо. – Всегда им был. – И, немного успокоившись, насмешливо добавила: – Что ж, твои фанаты ждут не дождутся твоего возвращения. Только о том и говорят. – Моя жена снова потянула дверцу и едва слышно шепнула: – Отпусти.
– Одри… Если я никогда больше не сыграю… сколько времени тебе нужно, чтобы поверить мне?
– Этого не будет.
Я вклинился между дверцей и микроавтобусом.
– Подумай, если бы я это сделал, то отказался бы от всего и никогда больше не взял в руки мяч. – Я махнул рукой в сторону тех, кто стоял за спиной. – Все эти люди желают моего возвращения, и ты… В глубине души ты ведь знаешь, что я мог бы вернуться. Могу вернуться. Я не так уж еще плох. Не наталкивает ли это на мысль, что не все здесь так просто? Что, может быть, я никогда тебе не лгал? Что, может быть, лжет кто-то другой?
Мы не говорили об этом после моего ареста, после выложенной Энджелиной истории, после всех представленных улик Одри засомневалась и дистанцировалась от меня. Учитывая, что мне светило как минимум двенадцать лет, винить ее трудно. Срок, если подумать, внушительный. Если бы это помогло ей как-то смягчить боль, перерезать нить, соединявшую наши сердца, то лучше бы она сказала это тогда. Может быть, тогда последние десять лет не дались бы ей так тяжело. Одри так не сделала. И пусть она ненавидела меня сейчас, пусть старалась забыть и даже не носила обручальное кольцо, пусть всего лишь однажды навестила меня в тюрьме и пусть я не мог заставить ее поверить мне, наши сердца все равно бились в одном ритме.
– Давай, строй из себя мученика. Мне наплевать – пусть даже тебя закопают под пятидесятиярдовой линией, – продолжала Одри язвительным тоном, заколачивая гвозди мне в сердце. – Ты мне солгал.
– Без тебя футбол для меня ничего не значит. – Она захлопнула дверцу, повернула ключ и с ревом унеслась. – Так было всегда, – добавил я, обращаясь к тающим в воздухе клубам выхлопных газов, удаляющимся огонькам и ухмыляющимся репортерам.
Рядом со мной стоял Вуд. Раскрыв рот, он проводил удивленным взглядом скрывшийся за углом фургон и покачал головой.
– Значит, Одри все время была здесь. Прямо у нас под носом. – Он повернулся ко мне. – Вот уж не думал.
– Она так хотела.
Социальные сети отозвались на мое сенсационное возвращение в город довольно активно. Джим Нилз, давно отошедший от ежедневных программ и довольствующийся одним лишь субботним шоу, вышел из полудремы для проведения спецвыпуска. Кто-то в офисе шерифа выжал информацию о доме Вуда, и через час у ворот уже стояли три машины телевизионщиков. Несколько срочно примчавшихся инспекторов и чиновников измеряли расстояние между домом и школьным участком. Репортеры брали интервью у администраторов, твердивших о необходимости «защитить детей». Винить их нельзя. Если бы кто-то, сделавший то, что, по их мнению, сделал я, поселился в полумиле от школы, где учились бы мои дети, я бы сам возглавил комитет по изгнанию такого негодяя из города. Но речь шла обо мне самом, и я ведь себя знал. В ход пошли самые разные измерительные инструменты и средства, включая спутники и GPS, и все подтвердили, что мое пребывание в доме совершенно законно.
– Но, – сказал Джим Нилз, вскидывая бровь в заключение репортажа, – только-только. Настойчивое утверждение мистера Райзина о том, что он не собирается играть в профессиональный футбол, вызывает вопрос. А каковы, мистер Райзин, ваши планы и почему вы выбрали в качестве места жительства именно этот городок? – Джим покачал головой и сложил руки. – Привыкшему побеждать, как это было с мистером Райзином, трудно смириться с поражением. Можно убрать его из футбола, но как убрать футбол из него? Что ж, это уже совсем другое дело.
Я выключил телевизор, посмотрел в окно в направлении прячущегося за деревьями амбара и молча кивнул в знак согласия.
Глава 11
Амбарная дверь заскрипела от моего толчка. Я прибавил газу в лампе и вошел. Свет от сверкающего белого плафона осветил амбар изнутри, и я застыл на месте от удивления.
Амбар был предназначен для развешивания и просушки табачных листьев. В среднем амбары имели пятьдесят футов в ширину, сто пятьдесят в длину и пятьдесят в высоту – почти такого же размера, как баскетбольный зал. Температура и влажность регулировались с помощью горизонтально расположенных по всей длине, снизу и сверху, форточек. Внутреннее пространство амбара делили стропила. Расположенные на расстоянии пяти футов друг от друга, от передней двери до задней, они пересекали амбар по всей длине. Стропила начинались прямо над головой и поднимались через каждые четыре фута, как лестницы к крыше. Внутри амбар походил на сушилку в прачечной, только не для белья, а для табачных листьев, и обезьяне было бы тут раздолье. Для нас с Вудом это место было получше Диснейуорлда. Мы поднимались по лестнице на первую балку, а оттуда взбирались на самый верх и, как Человек-Паук, перепрыгивали с балки на балку, не касаясь земли.
После того как табачная отрасль пришла в упадок, амбаров на Юге осталось мало. Несколько еще можно найти в Коннектикуте, но большую их часть разобрали, доска за доской, чтобы продать ради ценной сосновой сердцевины. Она уникальна по своим качествам: в древесном волокне содержится терпентин, натуральный продукт дерева, который обрабатывается, очищается и превращается в керосин, моющую жидкость вроде «Пайн-Сол» или в тысячи других вещей. Срезанное дерево сохраняет в себе природное горючее, обладающее почти такими же качествами, как и газолин. В холодные ночи я не раз выкапывал из земли сосновый корень, очищал ножом небольшой участок, поджигал сырой, обнажившийся конец корня и смотрел, как он горит – часами, словно факел. А если при этом найти настоящую сердцевину сосны, ту, где самая густая смола, то звук при зажигании будет как у паяльной лампы.
Учитывая, что амбары строятся из такого легковоспламеняющегося материала, неудивительно, что когда один из них загорается, зрелище бывает еще то. Огонь распространяется и выходит из-под контроля очень быстро. За каких-нибудь несколько секунд он превращается в бушующее пламя. Лучшее, что можно сделать, – это отойти подальше и любоваться зрелищем, какое редко увидишь.
Запахи навоза, табака, земли и терпентина, усиленные жарой и влажностью, окружили меня и наполнили воспоминаниями. Как давно это было. И хотя воспоминания были приятными, они бледнели в сравнении с теми, что висели внутри.

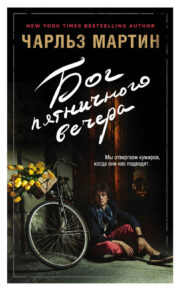
"Бог пятничного вечера" отзывы
Отзывы читателей о книге "Бог пятничного вечера". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Бог пятничного вечера" друзьям в соцсетях.