О том, что я решила работать в детском доме, ей, конечно, рассказала Лида, и она позвонила мне, чтобы уточнить, правильно ли она поняла, что я меняю Британию на Солгу. Я раздраженно подтвердила, что так оно и есть, и с вызовом спросила: «А что, что-то не так?» А она смутилась: «Нет, я просто так позвонила. Подумала, что раз тебе не хочется ехать в Лондон, то, может, ты захочешь поехать со мной в Питер? Папа мне там квартиру купил – на Невском» Тогда уже смутилась я.
Мне давно уже хотелось хоть кому-то все рассказать – о Лерином дневнике и о ее письмах. Я даже почти заикнулась об этом Маргарите – но прикусила язык. Моя сестра в таких вопросах щепетильна до крайности – как и мама. Она ни за что не поймет, как я могла прочесть чужие бумаги.
Мне нужно, чтобы хоть кто-нибудь постарался меня понять. Понять, почему мне просто необходимо поехать в Солгу – чтобы поддержать Туранскую, приласкать Артемку и найти того предателя, который написал письмо.
И вот Настя сидит в кресле у окна, и на лежащий на ее коленях дневник капают ее слезы. Кто бы мог подумать, что она сентиментальна. Она читает медленно (почерк у Леры не идеальный), но я не тороплю. Я уже выпила кофе, дочитала потрясающий роман «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок», ответила на сообщения в интернете.
Наконец, она поднимает голову и спрашивает:
– Ты влюбилась в него, да?
Я роняю телефон на пол.
Меньше всего я ждала от нее этого вопроса. Ждала удивления («Неужели ты хочешь ехать в такую глушь?»), восхищения («Это так благородно!»), даже – насмешки. А этого вопроса не ждала.
Я никогда не считала ее особо сообразительной. Красивой – да, но отнюдь не умной. Может быть, потому и решила дать прочитать дневник именно ей.
Она буравит меня взглядом, и я чувствую, что краснею. Мне хочется выставить ее за дверь и убедить себя, что этого вопроса не было. Или, по крайней мере, убедить себя в том, что я могу ответить на него отрицательно.
– Ты соображаешь, что говоришь? Разве можно влюбиться в того, кого ты знаешь только по чьим-то фантазиям?
Но я и сама знаю, что это возможно.
В пятом классе я влюбилась в Бюсси из «Графини де Монсоро», в десятом – в Рэтта Батлера из «Унесенных ветром», а уже в институте – в мистера Дарси из «Гордости и гордыни». Глупо? Да! Влюбляться в героев книг – занятие бесполезное. Мечтаешь о мистере Дарси, а в реальности встречаешь преимущественно Уикхемов и Коллинзов.
Более того – влюбляться в придуманных героев опасно. Ты создаешь себе идеал, наделенный одновременно и мужественностью, и добротой, и благородством – тем сочетанием, которого в природе не существует. А потом разочаровываешься в каждом, который этому идеалу не соответствует.
Настя вздыхает:
– Ладно, не сердись – наверно, я не то сказала.
Я чувствую себя так, будто она невольно сорвала красивую обертку с моего благородного (да, глупого, но благородного!) поступка. И под этой оберткой оказалась неприглядная правда, в которой я не решалась признаться самой себе. Да, я влюбилась – влюбилась в человека, которого видела только на выцветшем агитационном плакате. В того, кого я совсем не знаю. Нет, не так – в того, кого я знаю только с Лериных слов. В того, в кого она влюблена сама.
Я чувствую тошноту. Когда я паникую, она всегда подступает к горлу.
Настя поднимается с кресла.
– Я, наверно, домой пойду. Спасибо, что дала прочитать.
А я, наконец, решаюсь признаться – не столько Насте, сколько самой себе.
– Да, я влюбилась!
– Офигеть! – Настя снова падает в кресло.
Часть пятая. Солга
1
– Что заставило вас приехать в Солгу?
Темно-карие глаза Туранской полны – нет, не враждебности, но какого-то неприкрытого и оттого особенно оскорбительного недоверия. Словно с самой первой минуты разговора она вменила себе в задачу поставить меня в положение оправдывающейся. И я, хоть и настраивалась на такой прием и готова была дать достойный отпор своей будущей начальнице, всё-таки в это положение встаю. И начинаю-таки оправдываться («блею», как сказал бы Андрей).
Я почти без запинки произношу заранее составленную и даже записанную на бумажку, сейчас лежащую в моем правом кармане, речь о важности учительского труда, о доброте и милосердии и о том, что не только в больших городах можно стать настоящим педагогом.
Взгляд Туранской не теплеет ни на йоту. А может, она не слушала меня вовсе?
Конечно, речь слишком книжная – это я понимаю и сама. Но нужно же было с чего-то начать?
Больше всего я боялась, что Туранская окажется похожей на Юлию Константиновну, которая учила меня в начальной школе, и которая за один урок привила мне ненависть и к школе вообще и к педагогам в частности. Юлия Константиновна пришла к нам во втором классе, в середине учебного года, когда обожаемая всеми Елена Андреевна вышла замуж и уехала с мужем куда-то то ли в Сибирь, то ли на Дальний Восток (для нас тогда это было одно и то же).
Провинилась я на первом же уроке, на котором Юлии Константиновне вздумалось проверить уровень наших знаний. Нет, с заданием я справилась быстро и даже взялась помочь сидевшему на соседней колонке и спасовавшему перед задачей Никите Рудакову и незаметно передала ему свою тетрадку – на, списывай! Попалась я, когда стала забирать тетрадь обратно – учительница неожиданно возникла перед самой партой и пребольно шлепнула меня указкой по руке. Я заплакала – не столько от боли, сколько от обиды, потому что Юлия Константиновна, не ограничившись физическим наказанием, решила воздействовать на восьмилетнего ребенка еще и морально и до конца урока говорила о том, что некоторые родители совершенно не умеют воспитывать детей, а значит, придется вызвать их в школу и объяснить суть современной системы образования. Одноклассники поглядывали на меня и хихикали. Не хихикал только Никита – он тоже плакал.
В тот день я решила, что ни за что больше в школу не пойду, потому что не представляла себе, как мы с Юлией Константиновной сможем сосуществовать в одном классе. Но проблема решилась так же неожиданно, как и возникла. Вероятно, на ближайшей же перемене в учительской Юлии Константиновне рассказали, что мой отец в современной системе образования тоже кое-что смыслит, потому как является доктором педагогических наук и деканом того самого факультета, на который, как надеялась Юлия Константиновна, сможет поступить ее учившийся в одиннадцатом классе сын. Уже на следующий день она сменила гнев на милость, и с тех пор вплоть до окончания начальной школы я была для нее «умницей» и «дорогушей».
Нет, на Юлию Константиновну Туранская (ура!) ничуть не похожа, но вот ее сомнения в моих педагогических способностях оказываются неприятной неожиданностью.
Я не рассчитывала, что в Солге меня выйдут встречать с хлебом-солью, но надеялась, что диплом магистра произведет на Светлану Антоновну хоть какое-то впечатление. Вряд ли в их затрапезном заведении много педагогов с таким образованием.
Это подтверждает и сама Туранская:
– Я понимаю, что разбрасываться такими кадрами – непозволительная роскошь. Среди нашего коллектива нет ни одного специалиста с ученой степенью. Да я, знаете ли, к стыду своему, до сих пор не понимаю Болонскую систему образования. Мне кажется, советская высшая школа была очень даже неплоха и без всяких там бакалавров и магистров. Впрочем, к вашему диплому у меня, разумеется, нет ни малейших претензий. Среди моих педагогов есть те, которые вовсе не имеют высшего образования. А чему вы удивляетесь? Это не город, сюда потенциальные работники толпами не едут. В здешней общеобразовательной школе рисование преподает учитель русского языка, а иностранный язык до недавнего времени преподавала учительница истории.
Я несколько приободряюсь и даже пытаюсь улыбнуться. Как оказывается, зря.
– Вы поймите, – Светлана Антоновна заглядывает в лежащие перед ней бумаги, – Варвара Кирилловна, я вовсе не сомневаюсь в вашей квалификации. Вы окончили университет с красным дипломом, и это уже о многом говорит. Я только хочу понять, что может заставить молодую симпатичную девушку с дипломом солидного вуза уехать из областного центра в такую глушь?
Я чувствую, что краснею, и сержусь на себя. Вполне предсказуемый вопрос. И чего я так нервничаю? Не поверила женщина в мой благородный порыв. А кто бы так сразу поверил? Значит, нужно повторить всё то, что уже было сказано, только с меньшим пафосом, и прибавить что-нибудь про стремление к самостоятельности.
Но следующий же вопрос Туранской напрочь пресекает мое желание вообще что-либо говорить.
– Плохая компания? Алкоголь? Наркотики? – тоном прокурора вопрошает Светлана Антоновна, и в глазах ее мелькает даже какой-то интерес.
– Что? – я даже не сразу понимаю, о чём она меня спрашивает.
– Варвара Кирилловна, давайте будем откровенны друг с другом. Да, мне нужен педагог, и в отделе образования мне недвусмысленно намекнули, что они советуют принять на работу именно вас. Но мне хотелось бы знать, что за человек поступает под мое руководство. Поймите меня правильно – с одной стороны, я должна буду доверить вам наших ребятишек. С другой стороны, я, так или иначе, несу ответственность за наш педагогический коллектив. Наш детский дом в прошлом учебном году уже столкнулся со столькими проблемами, что, обжегшись на молоке, поневоле начинаешь дуть на воду. Может быть, вы слышали, что раньше в этих стенах мы держали детей до получения ими полного среднего образования, со следующего же учебного года нам ограничивают срок их пребывания здесь начальными классами.
Ее глаза еще больше темнеют, и мне даже кажется, что Туранская не удержится от слез. Но я ошибаюсь.

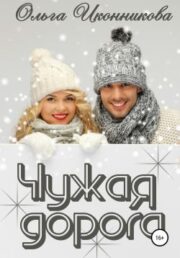
"Чужая дорога" отзывы
Отзывы читателей о книге "Чужая дорога". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Чужая дорога" друзьям в соцсетях.