– Ну, чиновники, что ли?
– Нет, не чиновники, не надо чиновников вписывать в средний класс. Это – правящий класс.
– Пролетариат четвёртого класса – сословие, группа лиц, не имеющая высоких доходов и существующая на низкие заработки или за счёт временной работы. Но не имеет свободы передвижения.
– Почему не имеет?
– А потому, что он привязан к промышленному предприятию, без него он не может себя и семью прокормить.
– И откуда ты дружище это знаешь? – спросило несколько голосов.
– Я эту философию я раз восемь пересдавал профессору в консерватории, – ответил тот. – Пока не вызубрил, другие тоже ходили по пятнадцать раз. Нам лопухам старшекурсники говорили, не морочьте голову, он всем ставит. А он возьми, в середине учебного года и ушёл …
– Куда?
– На пенсию, а пришёл молодой, недавно защитившийся доктор философии. Вот он нам и дал понятие о науке, – ответил голос.
– Горожане, это фактически, как потом скажут, и есть третий класс, – продолжил голос, рассказывавший им про Наполеона. – Тогда в городах, да и городов в нашем понятии не было. Это были крупные сёла, ну, что-то вроде нашего сельского райцентра, только обнесённые изгородью, валом, стеной, с чёткой границей. Или вокруг замка дворянина рос посад. А жили кто в нём? Те же крестьяне, или те, кто прислуживал феодалу. Ну, иногда что-то вроде гарнизона военного. Вот и всё! Никакого врача, учителя, тем более музыканта не было, то есть вот этого самого среднего – третьего свободного сословия не было. Придворные музыканты, их нельзя считать средним классом. Вот, и в противовес бесчинству власти графов, баронов, королей … Наполеон ввёл Гражданский кодекс и появился этот самый третий класс. Об этом ещё указывал до него кардинал Ришелье, но после смерти Ришелье, число горожан медленно увеличивалось, именно свободных горожан за счёт учителей, юристов, свободных музыкантов, врачей, инженеров, учёных. Но у них не было юридической защиты. Теперь же, согласно гражданскому кодексу Наполеона, все граждане были равны перед законом. Как уже говорилось, разрешался развод и утверждалась веротерпимость. Законы Наполеона ясно и разумно регламентировали жизнь каждого гражданина Франции, устанавливали в стране порядок и давали ей возможность развиваться. Кодекс Наполеона вошёл в историю как образец законодательства.
Наполеон провёл административную реформу, учредив институт подотчётных правительству префектов департаментов и супрефектов округов. В городах и деревнях назначались мэры. Был учреждён государственный Французский банк для хранения золотого запаса и эмиссии бумажных денег и всё в один 1800 год, централизована система сбора налогов, о чём тоже мечтал Ришелье. Административные и правовые нововведения Наполеона заложили основу современного государства, многие из них, действуют и по сей день. Именно тогда была создана система средних школ – лицеев и высшие учебные заведения – Нормальная и Политехническая школы, до сих пор остающиеся самыми престижными во Франции. Началось строительство дорог, каналов и мостов. Учёные и изобретатели получили от императора возможность заниматься своей деятельностью на пользу государству. Всем жителям страны были сделаны прививки от оспы. Понимаете прививки, а это сколько нужно было докторов иметь!? Тогда ведь медсестёр не было! Всё делали именно доктора. В Париже развернулось грандиозное строительство, Наполеон говорил, что он превратит столицу в сказочный город, и сделал это.
Именно зажиточное крестьянство, по-современному фермеры и горожане стали внутренней опорой режима Наполеона. Сколько французских учёных у нас в России осталась после наполеоновской войны?! Тьма. И многие учёные образованные. Они стали учить наших крестьян. Фамилия даже появилась Францев. А вот большевики, не дали свободы, они обобществили всё у нас в России.
– Ну, может в этом и есть резон. Мы ведь холодная страна, мы же не можем жить под мостами Сены, как в Париже. Может быть, это было следующей ступенью развития общества, – сказали ему.
– Ведь Наполеон обещал им среди прочих свобод, свободу владения и распоряжения своей собственностью, а у нас советский человек считался свободным, пока не имел ничего. Принципы неприкосновенности частной собственности стали одними из первых деклараций Французской революции. В их развитие статья 545 Кодекса Наполеона утверждает: "Никто, не может быть принуждаем к уступке своей собственности, если это не делается по причине общественной пользы и за справедливое и предварительное вознаграждение". В 1808 году во Франции Наполеоном была проведена образовательная реформа. Специальным декретом был утверждён указ о создании Императорского Университета, и устанавливались единые правила для всех учебных заведений. По этому указу создавалось три ступени образовательного пути: начальной, средней и высшей. Это сколько нужно сразу учителей иметь! Учитель танцев, музыки, этикета, учитель письменности, иностранных языков, математики. … Это привело к тому, что единые квалификационные требования и программы в сочетании с разнообразием типов учебных заведений максимально удовлетворяли потребности именно горожан и государства в специалистах различного профиля и давали образование широким слоям населения. Появились ремесленники, обслуживающие учеников и учителей, которые изготавливали тетради, карандаши, перья,… появились типографии. Они стали расти как грибы после дождя.
– А вообще, если честно сказать с точки зрения экономики, только в советской России была научно экономически обоснованная оплата труда.
– Это Вы о чём?
– А о том, что только в советской России была научно обоснована оплата труда.
–А что в Европе и Америке не научно обоснованно? – ехидно спросил оппонет.
– Нет, ни в Америке, ни в Европе тем более. У нас был НИИ, и вот в этом учреждении замеряли, сколько времени человеку нужно на определённую трудовую деятельность. Ну, например… – тут он задумался, – ну вот, например…, нужно собрать часы ручные. Приходили из института и замеряли, сколько времени у десяти-двадцати человек требуется, чтобы они собрали часы до того, чтобы отправит их потребителю. Секундомер и мерили. Далее измеряли, сколько он, индивид, на это тратит энергии и сколько нужно человеку для возмещения этой энергии в жирах, углеводах, и белках. То есть, сколько человеку нужно продуктов питания на сборке часов в месяц. Это базовая стоимость труда человека на сборке часов, потом накидывали, сколько человеку нужно одежды для жизни. Её, как известно, растягивали на износостойкость. И они не брали во внимание, что в этом году эта одежда вышла из моды. Они рассчитывали, сколько нужно потереть трусов, маек, рубашек, брюк, носков, пиджаков этим сборщикам часов. Это раскидывали на год. Кроме этого закладывали предметы гигиены: зубная паста, мыло, стиральный порошок, лекарство. Вот так рассчитывали всё! Сколько человеку платить. И получалось, что это самая тяжёлая работа и оплачивалась она хорошо. А тяжёлая это работа металлурга, шахтёра, космонавта, грузчика? Всё рассчитывали, и это была математически научно-обоснованная оплата труда каждого профессионала в СССР. Хотел много зарабатывать – иди в шахту, иди металлургом, иди первопроходчиком. Поэтому артисты у нас мало получали. Но они хотели красиво выходить в свет и жить красиво.
– Постой, а учитель, врач, библиотекарь как?
– Также рассчитывали. Работники интеллектуального труда имеют малую энергозатратную работоспособность и соответственно им мало надо платить.
– То есть интеллектуальная работа – это менее затратный труд. Менее нужный. Это у хирурга малозатратный труд или у учителя?
– Ой! Стой! Я не говорил, что он менее нужный. Не надо передёргивать. Он по энергии менее затратен. И соответственно нужно затрачивать на возобновление энергии меньше продуктов питания, чем металлургу, грузчику. Вот я о чём.
– Хы-м-мы.
– Вот так, а про другие стоимости. Так там вообще никакой экономической логики нет. Например, на западе стоимость нефти – это не математический показатель. Это показатель психолого-авантюрного склада ума. Напугали обывателя, он начинает скупать или продавать акции нефтяных или околонефтяных компаний. При этом потребнось в нефти стоимость никак не контролируется. Потому, что усвоить нефть можно в определённых объёмах и за пару-тройку месяцев, она не может быть больше или меньше. Она может меняться только в пределах пяти-десяти лет. Построили завод или его разбомбили. Аналогично и показатель стоимости акций того или иного предприятия – это не математико-экономический, а психологический показатель. Поэтому экономика – это не научная дисциплина, хоть и оперирует цифрами. Даёт предприятие прибыль, значит, нужно акции скупать, не даёт прибыль – в ноль или в минус – скидывают, продают акции. Ведь на этом афёры делают. На этом учебники экономики писаны. Они там прямо чёрным по белому пишут: "Нужно покупать акции во время, когда они дёшевы, и продавать, когда они дороги". А для этого нужно напугать обывателя. Например, держатель акций – известный человек, там политик, спортсмен, музыкант … и все акции стали расти или дешеветь. Но от работы самого предприятия это не зависит, как выпускал он 800 штук изделий, и выпускает. Или там новый товар запустили, абсолютно нового не бывает. Для абсолютно нового товара должны созреть условия его использования . Ну, например, изобрели телевизор, вот ящик или панель, так этот телевизор нужно наполнить, чтобы по нему смотрели что-то. Значит, нужно индустрию развивать подготовки передач. А её в один час, неделю, месяц, год не подготовишь, время нужно, годами наполнять этот телеящик продуктом. Вот недавно ещё лет тридцать назад вошли в эпоху видеомагнитофоны. И первые видеомагнитофоны «Электроника» поступили в наши магазины, но их не раскупали. Они месяцами стояли, хоть к ним десятки кассет были. Покупай видеомагнитофон, и они были доступны по покупательской способности нашему населению. Но что с ним делать? Ни сам человек, ни индустрия не готовы и только лет через восемь все стали гоняться за этими видеомагнитофонами! Созрели условия его потребления, появилась возможность записывать телепередачи, стало возможно покупать видеокассеты с фильмами, стали доступны видеокамеры для бытовой записи. Сейчас уже и видеомагнитофоны никому не нужны, и видеокассеты их век был около десяти лет. Наступил век Интернета и век хранения информации на нём. Но вся индустрия телевидения перешла в интернет. Значит, ничего нового не развилось. Только одно технологическое железо заменилось на технологический кремний, то есть песок. Вот и всё. Нового прорывного нечего не произошло. Бумага, то есть газета, журнал, книга ушла на другую базу. Раньше были репортёры-журналисты. Теперь репортёр – оператор-говорун. Раньше он хоть должен быть грамотным, теперь ему грамотность не нужна. Ему нужен подвешенный язык и всё. Пока в новом веке ничего нового прорывного не появилось в экономике.

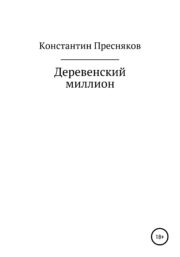
"Деревенский миллион" отзывы
Отзывы читателей о книге "Деревенский миллион". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Деревенский миллион" друзьям в соцсетях.