Первый удар Антона был таким сильным, что кожа у меня на лбу немедленно лопнула.
Возможно, он бил не рукой, а тем самым будильником, оглушительное тиканье которого составляло мифическую «тишину пустой квартиры». Но как бы там ни было, хлынувшая кровь заливала глаза, а казалось — мутный поток застилает сознание.
Происходящее было странным.
Именно странным, страх куда-то ушел, а удивление осталось.
Я удивлялась.
Тело вдруг непонятным образом переместилось в пространстве. Ноги оторвались от земли.
Перед глазами — сквозь призму горячей крови — стремительно пронеслись грязные стены комнаты.
Потом оказалось: я почти касаюсь лицом холодного оконного стекла.
Потом тело снова резко переместилось, стекло исчезло, в лицо пахнуло сырой вечерней прохладой.
— Как же ты надоела мне, сука! Как надоела!
Голос любимого звучал совсем рядом.
Сильные руки крепко, до боли сжимали меня.
Но недолго.
Все вдруг пропало.
Тьма — кругом, холодная, влажная тьма. Не беспамятство, нет — поток воздуха за нашим окном подхватил меня, понес куда-то, ласково овевая разгоряченное тело.
Странным был этот полет, но приятным и, главное, спокойным.
Тишину, однако, распорол отчаянный женский крик.
— Что ты делаешь?! Не надо!!! — кричала женщина.
Но это была не я.
Я молчала.
Возможно, потому, что уже не могла кричать.
Все кончилось как-то вдруг: сырость, прохлада, полет. Ничего не было вокруг.
Темнота.
Пресс-конференция выдохлась через два с половиной часа.
Публика, похоже, сполна удовлетворила интерес.
Остался, разумеется, неизменный — или неразменный? — десяток журналистов, охочих до «эксклюзива».
Этих медом не корми — дай припереть «news maker»[4] к стене, заглянуть в глаза, ухватив за локоток или пиджачную пуговицу, задать вопрос так, чтобы не слышали другие, перемолвиться — многозначительно — парой слов.
Караулят жертву, заранее, минут за десять до окончания конференции, занимая места предполагаемого отхода.
Стража, впрочем, тоже не дремлет — любителей приватно поболтать с охраняемой персоной аккуратно оттирают от тела.
Потому в конце любого мероприятия почти всегда возникает небольшой ажиотаж, легкая толкотня, возня, словом — сумбур.
То же случилось со мной, хотя главный охранник рыл землю носом, доказывая собственную профессиональную пригодность. Его инкубаторские орлы вовсю работали локтями. Широкие спины самоотверженно сливались в живую изгородь.
Тщетно.
Неразменный десяток ловко перехватил меня на выходе и получил то, что хотел — подержался за рукав жакета, покрутил пуговицу, близко заглянул в лицо, задал припасенные вопросы.
Словом, все как положено — и неизменный сумбур в финале.
И любопытный разговор, растворившийся в этом сумбуре.
Собственно, не разговор даже, так — короткий обмен репликами и визитными карточками.
Никем не замеченный, как мне показалось.
Но я ошиблась.
Команда, которая готовила мероприятие, осталась довольна — с чувством выполненного долга, раскованно расположилась за круглым столом в моем кабинете.
В действительности я хотела всего лишь сказать спасибо. Но процесс вроде бы сам собой покатился по накатанной — мной же когда-то! — колее.
Начался «разбор полета».
— Что ж, по-моему, все сложилось. — Птаха говорит веско, без эмоций. — Вопросы, которые мы хотели услышать, прозвучали. И наоборот. Нежелательных вроде не было.
— Работали с людьми! — Бойкий пресс-секретарь буквально сочится самодовольством.
— С этими людьми можно работать сколько угодно, все равно в лес смотрят, — назидательно парирует Птаха.
— Ты им льстишь, Юра. Волк — животное благородное.
— Значит, сколько ни корми…
— …все равно кусают за пятки.
— Ну, тебя сегодня не кусали.
— Был один вопрос… — Девочка из пресс-службы замолкает в смущении и смотрит на меня, будто спрашивает, можно ли продолжать. Я понимаю, что за вопрос она имеет в виду. Птаха соображает не сразу…
— Чей вопрос?
— Этой… Не помню фамилию, яркая такая блондинка…
Она права — блондинка на самом деле была яркой.
И сексапильной, в стиле Мэрилин Монро. С такими же короткими, аккуратно уложенными волосами и пухлыми губами. Разумеется, пунцовыми.
Она и говорила похоже, с чувственным придыханием.
— Вы любили его? — негромко поинтересовалась «Мэрилин», подавшись вперед так умело, что выпиравшая из-под блузки грудь легла на плечо пожилого дядечки-«правдиста».
Дядечка нервно заерзал.
Зал затаился.
И совершенно напрасно.
Это был хороший вопрос — возможно, самый лучший из всех, что прозвучали сегодня.
По крайней мере отвечать на него было легко.
Я не лгала и даже не кривила душой.
— Любила. Как никого в жизни…
Публика вздохнула сочувственно.
Я опустила глаза, разглядывая каракули, которые чертила от нечего делать на чистом листе, подумала про себя: «Вы ведь не уточнили, о каком времени идет речь. Нынешнем или прошлом? В любом случае употреблено было прошедшее время. И правильно. Теперь о нем всегда будут говорить только так, в прошедшем времени. Слава тебе, Господи!»
Глаза можно поднять.
Взгляд грустный, слегка затуманенный. Самую малость.
Это очко как минимум, если не все десять.
Разумеется, в мою пользу.
— Нет, — говорю я теперь, обращаясь к стеснительной девочке из пресс-службы. — Это был совсем не трудный вопрос.
Птаху вопросы любви занимают мало.
Возможно, он запомнил другое?
— А кстати… Мой африканский контракт, оказывается, помнят.
— Да, — удручающе односложно. А ведь я отчетливо видела, как завертелась его большая круглая голова, отыскивая в зале журналиста, задавшего с места вопрос о судьбе алмазного контракта.
— Помнят! — упорствую я.
Птаха смотрит укоризненно.
Мне и впрямь становится стыдно за глупое упрямство, но в большей степени — за подозрительность, конечно.
Решили ведь накануне — проехали эту тему. И забыли. Сама настаивала.
Пытаюсь отыграть ситуацию.
— Yes, I do, а фигли толку! — Птаха понимающе фыркает, а юркий пресс-секретарь, слегка переигрывая, умиляется.
— Отлично сказано!
Кстати, никак не могу запомнить его имя.
Со мной бывает — личность, не вызывающую интереса, сознание воспринимать отказывается.
Категорически.
Тогда — хоть кол на голове теши! — все связанное с ней вылетает из памяти, не оставляя даже малой зацепки.
Заметки — где ни пиши — исчезают самым мистическим образом.
Выходит — не человек, а сплошной пробел восприятия.
— Охолонись, малыш. Это присказка из серии… — Птаха вертит ладонью на уровне собственного живота. Вниз — вверх.
Приходит мой черед понимающе фыркнуть, а безымянный пресс-мальчик окончательно шалеет.
Но Птаха великодушен.
— Не бойся, птенец, ничего неприличного. Этот жест означает всего лишь: когда мне было столько лет, — он вновь указывает на свой живот, перевернутой вниз ладонью демонстрируя рост ребенка, — у этого анекдота была уже такая борода. Ладонь переворачивается вверх, отмеряя длину бороды.
Все смеются, будто слышат об этом фокусе впервые.
Собственно, так и есть — мы с Птахой единственные здесь сорокалетние.
Остальные — мелочь, едва дотянувшая до тридцати.
У них свои гэгги.
В подтверждение моих мыслей безымянный пресс-секретарь на сей раз совершенно искренне уточняет:
— Анекдот?
— Анекдот. — Птица парит на волнах своего великодушия. — Американская экспедиция заблудилась в глухой сибирской тайге. Неделю петляют, другую — одичали, оголодали, замерзли. Вдруг из чащобы навстречу им — мужик. Здоровый, заросший, в тулупе, валенках, с ружьем. Они пугаются и радуются одновременно, не рассчитывая на успех переговоров, на всякий случай интересуются: «You speak English, sir?» И слышат в ответ угрюмое: «Yes, I do, а… фигли толку». Мы, правда, говорили иначе.
— Здесь дамы, Юрий Львович.
— Я помню, босс.
Ничего, казалось бы, странного не прозвучало.
Я — босс.
Слава Богу, наши умельцы определять профессиональную принадлежность с учетом половой, любители «секретарш, докторш и дикторш» не сподобились еще по-своему приспособить иностранное словечко.
Стало быть, все верно — босс.
Однако ж ребята из пресс-службы едва заметно напрягаются, а эмоциональная девочка, смущенная вопросом о любви, и вовсе пугается, вздрагивает, вскидывает на Птаху трепетный взгляд.
На их памяти боссом он называл только Антона.
На моей, впрочем, тоже.
И вот любопытно: зачем так подчеркнуто обратился теперь ко мне?
Перед кем разыгрывал спектакль? Не перед этими же детьми из пресс-службы!
Значит, передо мной?
Задумавшись, я непроизвольно качаю головой: «Нет, так нельзя. Кажется, я становлюсь клоном. Не доверяющим никому, одержимым манией преследования, совсем как покойный оригинал».
Мысли, однако, остаются при мне, но качание головой замечают все.
И каждый толкует по-своему.
Птаха принимает за осуждение.
— Ну, прости. Я ж ничего не сказал, подумал только…
Пресс-секретарь относит на свой счет:
— Что-то было не так? У вас замечания?
Пора возвратить в их души покой.
— Нет. Я задумалась…

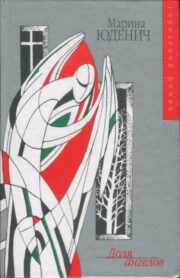
"Доля ангелов" отзывы
Отзывы читателей о книге "Доля ангелов". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Доля ангелов" друзьям в соцсетях.