Тон его меняется, лирические нотки затухают, на смену приходит странная интонация.
Деловитый восторг.
Именно так.
— О! Ты еще не знаешь, как тебе… то есть нам… повезло. Ну… В определенном смысле…
Он понимает, что сказал глупость.
А вернее — правду. Ту, однако, которую говорить не следовало.
Слишком цинично звучит сказанное.
Впрочем, некоторое время спустя я, безусловно, с ним соглашусь.
Нам действительно несказанно повезло.
Момент, когда наше общее с Антоном дело вдруг стало делом Антона, я помню с точностью до месяца, числа, дня недели и времени суток.
Однако ж это отнюдь не делает мне чести.
Что же касается событий, а вернее — тенденций, которые всего лишь выплеснулись наружу в известный момент, их-то как раз я — к своему стыду — проворонила.
Нельзя сказать, что не замечала вообще ничего, мирно плывя по течению успешного бизнеса, с привычной — уже! — ленцой пожиная плоды заслуженного успеха.
Отнюдь.
Были смутные тревоги, совершенно конкретные факты, известные из собственных источников.
Было, наконец, ясное, проверенное временем знание о том, что представляет собой Антон Полонский — муж и партнер на протяжении семнадцати лет.
Закономерен вопрос: зачем существовал так долго союз людей если и связанных между собой, то исключительно глубокой взаимной неприязнью?
И более того — ненавистью, давней, вязкой, привычной.
Или — во имя чего?
Разумеется, в разное время на разных этапах нашего совместного существования я задавалась этим вопросом множество раз — и всегда находила ответ.
Неутешительный, но очень простой.
Мы были нужны друг другу, и только вместе, объединенные застарелой ненавистью, способны были сотворить то, что сотворили в итоге, — успешное, процветающее дело.
Белок, наверное, может ненавидеть желток, заключенный в скорлупе одного яйца, или же оба, к примеру, люто возненавидят скорлупу, однако — как ни крути — обречены на совместное существование.
Иначе просто не может быть.
И точка.
У нас сложилась примерно та же ситуация.
Сначала я была необходимым условием успеха. И даже не я сама как таковая — стечение обстоятельств, подаривших именно мне участие посторонних людей.
О них, однако, речь впереди.
Потом моя роль перестала быть единственно главной, однако продолжала оставаться значимой.
Одной из главных — скажем так. И это будет справедливо.
Я была персонажем, без которого пьеса рассыпалась бы еще в первом акте, потому что именно я генерировала идеи, разыгрывала ситуации, расписывала варианты — то есть, собственно, создавала сюжет.
Однако должна признать — залогом позитивного развития стали тогда свойства Антоновой натуры.
Его потрясающее умение переступать через людей, а если в том была необходимость — шагать по головам, не разбирая, друг или враг стоит на пути.
Или человек незнакомый вовсе.
Его патологическое стремление — однако ж и умение тоже! — подчинять себе всякого, кто оказывался рядом, тем более в ком была некая, пусть и самая малая, потребность. Приманивать, прикармливать, незаметно подкладывая в лакомые куски беспощадный крючок.
Ничего такого я делать не умела, да и не было у меня ни малейшего желания ловить на живца, ломать через колено, работать локтями, кулаками, зубами.
Но не противилась тому, что творил Антон, ибо слишком хорошо понимала: без этого невозможно поступательное — будь оно трижды неладно! — движение, во имя которого мы все еще были вместе.
И — более того! — крепко, как никогда, держались друг за друга.
А двигаться — разумеется, вперед и вверх — хотелось.
Движение стало потребностью, потому что привычка к хорошей жизни, которую оно обеспечивало, слишком прочно засела в душе.
Почти как Антонов крючок.
А кроме того, дерьмовое наше прошлое не забылось, постоянно маячило в памяти. И казалось, малейшая остановка, заминка в пути немедленно опрокинет назад, в бездну нищеты, бессилия и безволия.
На дно.
Середины не было.
И казалось, быть не могло.
Но как бы там ни было, оба — и я, и Антон — отчаянно цеплялись за лестницу, бесконечно бегущую вверх, вроде той, что струится в метро.
И еще — друг за друга, потому что жили в уверенности: только так, в неразрывной сцепке сумеем преодолеть подъем.
Однако ж время шло.
Постепенно открылась истина: незаменимых нет, есть не замененные.
Стало ясно: функции, которые успешно выполнял партнер, могли исполнить другие люди.
Их достаточно было просто нанять. Заплатив, разумеется, хорошие деньги.
И — черт его знает! — пришло осознание потому, что наступили иные времена и появились такие люди.
Либо — марафонский подъем был закончен. И вместе с мускулами окрепли мозги.
Открылось второе дыхание, новый взгляд на мир. Иначе увиделся порядок вещей и отношений.
Стало очевидным то, что прежде пряталось в тумане ложных представлений и глупых предрассудков.
В этот момент, пожалуй, начался отсчет нового времени.
Длительный воспалительный процесс в нашем общем — одном на двоих — организме стремительно покатился к трагическому разрешению — гангрене и неизбежному потом отторжению части от целого.
Кто первым подлежал ампутации? Вот в чем заключался вопрос.
Но как бы там ни было, снежный шар сорвался с вершины горы.
Антон, к примеру, предложил, а я без колебаний согласилась разделить на две равные доли общее состояние, большая часть которого была надежно укрыта в потаенных финансовых лабиринтах «Swiss bank corporation».
Предлог был, бесспорно, благой. Классический принцип русского предпринимательства, известный со времен царя Гороха, нисколько не утратил актуальности в наши дни. Он, как известно, предписывал не хранить все яйца в одной корзине.
Об этом, собственно, говорили мы друг другу и тем немногим, кто был посвящен в тонкости наших финансовых операций.
«Немногие» искренне поддерживали предусмотрительное решение.
Мы же в глубине своих душ прекрасно знали — никакие яйца ни в чьей корзине здесь ни при чем.
Предусмотрительность заключалась в том, что каждый подспудно готовился к ампутации, хорошо понимая, что другой делает то же.
Я — в свою очередь — взяв на вооружение тезис «Преторианская гвардия из охраны превращается в конвой», сформулированный каким-то латиноамериканским диктатором, предложила разделить охрану.
Принцип, в сущности, был тот же — про яйца в одной корзине.
Что до ножей в спину, вонзенных собственными гвардейцами, полагаю, латиноамериканские диктаторы знали предмет.
Антон согласился не сразу.
Задумался.
Слишком уж очевидной была игра.
Но я «добила» его цитатой из Макиавелли, которого Тоша боготворил.
— Разделяй и властвуй, — сказала я.
— Ты имеешь в виду: они будут стучать друг на друга?
— Ну, разумеется.
— Логично.
Решение было принято, и я немедленно начала претворять его в жизнь.
Однако ж, думаю, Антон «сломался» отнюдь не потому, что принял довод.
Макиавелли с его несокрушимой мудростью придворного коварства был ни при чем.
Шла игра.
Опасная. По сути своей — на выживание.
И Антон до поры соблюдал ее негласные правила.
Только и всего.
Антон был прав.
Нам действительно повезло. Но везение открылось не сразу.
Поначалу карета «скорой помощи» доставила меня в Институт Склифосовского, и там особого оптимизма не проявили. Травмы, полученные при падении, были слишком серьезными.
Перелом позвоночника, такой неудачный — впрочем, может ли быть удачным перелом позвоночника? — что повреждены оказались легкое и почка. Неизбежное внутреннее кровотечение практически не оставляло мне шансов выжить.
Однако именно здесь началось чудесное везение.
В то же самое время в травматологию института прибыл профессор Надебаидзе. Светило, как принято говорить, мировой величины. Создатель новой школы, руководитель Института, слава о котором гремела.
Он ставил на ноги людей, приговор которым был подписан во множестве медицинских инстанций. И это был в высшей степени суровый приговор: неподвижность, полная и абсолютная, до конца жизни.
Спортсмены и артисты балета, автогонщики и альпинисты, каскадеры и десантники, получившие страшные травмы, покидая клинику профессора, возвращались к профессиональной деятельности.
К нему — уповая на чудо — везли безнадежных больных со всего мира.
И он творил чудеса.
Стоял уже поздний вечер, и близилась ночь, врачи — кроме дежурных — давно покинули свои отделения.
Тем паче профессора мирового уровня.
Однако заведующий травмой Института Склифосовского, в канун того самого вечера, просил профессора Надебаидзе проконсультировать сложного больного. И доктор Надебаидзе, разумеется, не отказал коллеге.
Приехал, однако, когда смог.
А смог — после двух собственных операций. Притом, что на сотворение каждого чуда тратил, как правило, часов по пять.
Словом, порог знаменитого «Склифа», Георгий Нодарович Надебаидзе пересек одновременно со мной.
Он — просто переступил, меня внесли на носилках.
Кто, когда и в какой связи сообщил консультирующему светилу о том, что в приемном покое отдает Богу душу девица, выпрыгнувшая со второго этажа, я так и не узнала.
А жаль, ибо этот человек, по существу, стал моим спасителем номер один.
Спаситель номер два немедленно захотел взглянуть на больную.

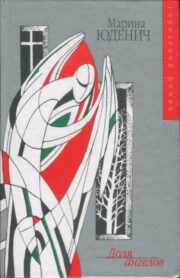
"Доля ангелов" отзывы
Отзывы читателей о книге "Доля ангелов". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Доля ангелов" друзьям в соцсетях.