В ордере было указано: «…свободна, за выездом жильцов». Что в переводе с кондового конторского означало: прежние жильцы почему-то покинули свой дом. Солидный чин из Моссовета, виртуозно исполнивший неимоверный — по тем временам — кульбит: вселение двух безродных голодранцев в двухкомнатную квартиру в центре, успокоил. С бывшими — все в порядке.
И даже рискованно пошутил: «Возможно, лучше, чем у нас с вами»
Семья, занимавшая прежде квартиру, уехала на историческую родину.
А квартира осталась.
Мебель, посуду, постельное белье мы покупали вместе с Вивой.
Вернее, покупала Вива, вдобавок заботливо интересовалась: нравится ли мне, придется ли по вкусу Антону?
И разумеется, снова задействованы были связи, связи, связи… Страна который год продиралась сквозь эпоху тотального дефицита.
Позже, когда квартира была обставлена, Антон исправно посещал занятия на подготовительном отделении, а меня — на профессорской машине — ежедневно возили в клинику, на занятия лечебной физкультурой и массаж, доктор озадачился следующей проблемой:
— На будущий год ты тоже пойдешь учиться. Только — прошу по дружбе — не надо ВГИКа, ГИТИСа, короче, всяких актерских штучек. Договорились?
— Я и не собираюсь.
— А куда собираешься?
— В медицинский.
— Вот как? И чем же — в медицине — мы собираемся заниматься?
— Хирургией. Ортопедической.
Он долго молчал, внимательно смотрел на меня.
И — мрачнел, в темных глазах плескалась печаль.
Удивительное дело, но я — несмышленыш — осознала в тот миг, откуда его печаль.
Доктор понял: я выбрала медицину всерьез, на самом деле, не потому вовсе, что благодаря его необъятным связям все дороги будут открыты.
Потому что хочу — как он или вслед за ним…
Словом, знаю: за мной — неоплатный долг, возвратить который следует не ему, доктору Надебаидзе, — другим, неизвестным пока людям, которых еще только караулит беда. В будущем. Возможно — далеком.
Но вышло иначе.
— Нельзя тебе в нашу хирургию, девочка.
— Почему — нельзя?
— Потому. Спинку твою я починил, как смог. Ходить, бегать, плавать и вообще жить ты будешь. Нормально жить. Слышишь? Но стоять у стола по десять часов тебе противопоказано. Ясно? До тридцати ты этого не поймешь. А после придется уходить из профессии. Тридцать — тридцать пять — самый творческий возраст. Зачем заранее программировать проблемы? Медицина — бескрайнее море. Терапия, психиатрия, стоматология… Хоть гинекология. Пожалуйста! Хорошая, кстати, профессия для женщины.
— Не хочу я гинекологию…
— Не хочешь — не надо. Слушай, если решила, давай в мед… Потом определишься.
— Я уже определилась.
— Сказал — нельзя!
— Тогда и в мед не надо.
— А куда надо?
— Все равно.
— Хочешь — на юрфак, с Тошей? А? Вместе учиться легче, по себе знаю.
— Хочу.
Ничего на самом деле я не хотела. Кроме медицинского, а потом — хирургии.
Однако спорить не смела.
Так и вышло в итоге: в следующем сентябре оказалась на студенческой скамье юрфака.
Оглядываясь назад, отчетливо вижу, понимаю и удивляюсь, как неправдоподобно, в духе святочной истории или рождественской сказки, сложилась тогда судьба.
Впрочем, сказочники, как правило, черпают сюжеты из жизни, слегка окутывая их флером волшебства, расцвечивая елочной мишурой и таинственно мерцающими гирляндами.
Притом к исходному материалу — реальным жизненным историям — подходят избирательно, отсекая за ненадобностью все, что может нарушить непреложные сказочные законы.
Несбывшиеся мечты. Зло, оставшееся без наказания. Добро, потерпевшее поражение.
В жизни истории, которые — по всему — имеют основание стать сказками, имеют оборотную сторону. Чудесам всегда находится объяснение.
Чудесным превращением из бродяг в респектабельную молодую пару мы были всецело обязаны внезапному покровительству четы Надебаидзе.
Сюжет, бесспорно, сказочный.
Была, однако ж, и у него оборотная, сугубо житейская сторона, осознать которую я смогла много позже.
Оба они с отчаянной, необъяснимой готовностью ринулись устраивать нашу жизнь, спасаясь от собственной тоски. Пытаясь вынырнуть из омута беспросветного горя, взаимных претензий и горьких упреков, едва не поглотивших обоих с головой.
Мы — в этом смысле — служили чем-то вроде поплавка.
К тому же их самоотверженное служение чужим заблудшим детям вполне укладывалось в формат древней максимы: в свой трудный час найди того, кому еще труднее, — и помоги.
Впрочем, были на оборотной стороне нашей сказочной истории куда более темные, сумеречные закоулки.
Им-то уж точно не нашлось бы места ни в одной сказке, иначе это была бы очень грустная сказка. Если не сказать — горькая. И жестокая.
Слава Богу, все открылось не сразу, и потому благодеяния семьи Надебаидзе осеняли нас еще долго. Как минимум около десяти лет, пока, оперившись, мы окончательно не стали на ноги.
Да и «оперились» мы, безусловно, благодаря профессору и его жене.
Они — а не кто другой — в 1986 году представили Антона директору крупного оборонного завода. Тот залечивал в клинике травмы, полученные в дорожной аварии. Речь поначалу шла о месте в юридическом отделе завода, и, разумеется, Антон его получил.
Однако дело пошло много дальше.
В стране наступали новые времена — всемогущая некогда «оборонка», для которой закрома родины были когда-то то же самое, что собственный бюджет, а понятие собственного бюджета отождествлялось с золотым запасом государства, переживала тяжелые времена.
Выхода — по сути — было два.
Безвольно и безропотно скользить по течению, влекущему не куда-нибудь — на самое дно. В пропасть.
Либо, смирив гордыню, искать новые формы существования, возможно, не столь престижные и почетные, но — гарантирующие выживание.
Директор — классический «красный барон» — горазд оказался не только гонять на пижонской разукрашенной «Волге» с форсированным двигателем. Не струсил, когда речь зашла о гонках более серьезных.
Антон был тут как тут.
Уже на последнем курсе института вовсю практиковал, формируя «пакет уставных документов» для первых кооперативов, индивидуальных частных предприятий и прочей мелочи, нарождавшейся как грибы после дождя.
Клиентов у Антона прибывало. И дело было поставлено на поток.
Ночами он уже не корпел над составлением документов. Отработанным жестом извлекал из портфеля типовой пакет. Но клиентам заученно «пудрил мозги», объясняя уникальность и сложность их ситуации. Назвал процесс «разведением лохов на бабки» и исполнял виртуозно.
Однако ж одновременно внимательно приглядывался к «лохам», а более всего косил глазом на продавцов «железа» — дешевых азиатских компьютеров, бывших тогда в ходу.
В чьей голове — его или «баронской», директорской — родилась неожиданная идея производить «железо» в России, я не знаю.
Антон, разумеется, утверждал, что — в его.
Однако с оригинальными идеями у Тоши всегда было туговато, потому, предполагаю, дело обстояло иначе.
Антон — завидущие глаза которого давно зацепились за крупные барыши торговцев «железом» — предложил директору «замутить» дело под крышей завода, пользуя, кстати, налоговые и прочие державные послабления издыхающей «оборонке». Открыть кооператив, поставляющий на голодный российский рынок низкосортное «желтое железо».
Директор же — по старой привычке — мыслил масштабно, к тому же хорошо знал возможности своего гигантского производства.
Его, думаю, и осенила идея.
Однако, как бы там ни было, она пришла вовремя. И — кстати.
Через год вся российская пресса трубила об «успешном вхождении в новую экономику гиганта социалистической индустрии», превознося качество и дешевизну первых российских персональных компьютеров.
Через пять лет «гигант социалистического производства» плавно и не менее успешно переместится из государственной — в нашу с Антоном собственность, положив начало череде «заводов, газет, пароходов», которыми мы — в недалеком будущем — обзаведемся.
Тогда, в девяносто первом, мы, пожалуй, «оперились» окончательно.
Городская квартира опустела. Начавший «походы во власть» Тоша схлопотал для нас государственную дачу в Ильинском.
Небольшой двухэтажный коттеджик.
Однако ж — на Рублево-Успенском шоссе, за зеленым «политбюрошным» забором, под охраной всемогущей стражи самого президента и — главное! — в тесном соседстве с крупными государевыми чиновниками, дружбы с которыми в ту пору исподволь добивался Антон.
Многим из них предстояло заглотать коварный Тошин крючок, но — до поры — никто ни о чем не догадывался.
Нас принимали радушно по одной простой причине — в нужные моменты Антон умел быть фантастически щедрым и предупредительным.
Стоило напыщенной матроне — супруге одного из президентских сподвижников — вскользь посетовать, что муж озадачил ее вечерним приемом гостей, Антон немедленно хватался за телефон. Вечером гостей матроны обслуживал один из самых дорогих ресторанов. Тоша заказывал все: закуски, напитки, бригаду официантов во главе с расторопным метрдотелем.
Et cetera…
Контакты с Надебаидзе в то время заметно сократились.
Нет, мы не ссорились, более того — при всяком удобном случае Тоша пел дифирамбы профессору и Виве, не таясь, рассказывал всем и каждому о том, что за роль сыграла эта чета в нашей судьбе.
Подробности, разумеется, опускались. Речь шла о серьезной травме, которую я получила однажды. Все почему-то думали об автомобильной катастрофе. К тому же люди в большинстве своем были интеллигентными или хотели таковыми казаться — лишних вопросов не задавали.

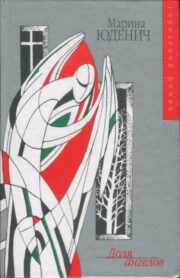
"Доля ангелов" отзывы
Отзывы читателей о книге "Доля ангелов". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Доля ангелов" друзьям в соцсетях.