Помимо жилья, Антон обеспечил девушку машиной с водителем из нашего гаража, горничной, мобильным телефоном и еще какими-то удобными мелочами, чего раньше не делал ни для кого.
Докладывая об этом, мой главный секьюрити отводит глаза, вернее — с напускной деловитостью шарит ими в бумагах, разложенных на столе. Ждет, надо думать, реакции. Или по меньшей мере расспросов: кто эта новая избранница, какова из себя?
Я не спросила ни о чем, и он, забыв про бумаги, удивленно взглянул мне в лицо. И даже встревожился: все ли в порядке? Бывает, от потрясения впадают в ступор.
Но я никуда не впадала.
Что до спокойствия — оно не было напускным. Отнюдь. Появление постоянной пассии, которую в отличие от прочих Антон так трогательно опекал, означало только одно: мне готовят замену.
И это было логично, в русле тенденции на разделение, о которой уже шла речь.
Очередной шаг — только и всего.
Мы возвратились в Москву спустя неделю после похорон Вивы.
И сразу же — едва сойдя с трапа — сказали друг другу: сейчас поедем к Георгию.
Но не поехали.
Железно решили — завтра. А сегодня позвоним. Вот только немного переведем дух.
Но не позвонили.
Шли дни, и каждый уносил с собой долю надежды на то, что мы вообще когда-нибудь осмелимся позвонить Георгию и уж тем более взглянуть ему в глаза.
Прошел месяц, и стало окончательно ясно — уже не сработают никакие отговорки: выключенные в тропической глуши телефоны, неведение, длительная отлучка — последний шанс упущен безвозвратно.
Выходило — расстались навек.
Разумеется, по причине исключительного нашего скотства.
«Черной неблагодарности» — как сказали бы в прошлом веке, и к этому нечего больше добавить.
Так думалось. Однако вышло иначе.
Он позвонил спустя два месяца — Антон накануне улетел в Давос, на Всемирный экономический форум. Тогда это было модно.
Он звонил, зная наверняка, что Антона нет в Москве: о форуме много писала пресса, особое внимание уделяла участникам. Те охотно раздавали интервью, позировали перед телекамерами.
Тоша не был исключением.
— Я приеду через час, — едва поздоровавшись, сказал Георгий хрипло и грубо. Тоном, не допускающим возражений. Да разве посмела бы я возражать?
Словно неожиданно вернулось прошлое: он снова был почти богом.
Я понеслась вниз, едва только охрана сообщила по рации, что «гость прибыл», стремглав слетела с лестницы, ведущей в холл, и как вкопанная замерла на нижней ступени.
Худой неряшливый старик с тусклыми, глубоко запавшими глазами и неухоженной клочковатой бородой неуверенно, будто слепой, переступил порог нашего дома.
— Не узнаешь? — Он взглянул прямо и слегка усмехнулся.
Усмешка осталась прежней.
И даже бровь — когда-то красиво очерченная, черная — двинулась вверх. Была у профессора Надебаидзе такая привычка — высоко поднимать правую бровь, выражая ироничное удивление.
Теперь его брови были тоже седыми, тяжелыми, и та, что пыталась занять привычное положение, только вздрогнула слегка — осталась на месте.
— Узнаю… Только…
— Только жизнь прошла. Так-то, — отозвался он уже без усмешки, но и без особой горечи. Буднично. — Я войду, если позволишь…
Я молча шагнула навстречу, но он отшатнулся и даже руку выбросил вперед, словно обороняясь от моего порыва:
— Обойдемся без объятий. Отвык.
В гостиной мы расселись, как чужие, на изрядном расстоянии, в низких креслах возле камина.
Он отказался от чая, кофе, коньяка и даже глотка воды не захотел сделать в моем доме. И я, разумеется, все принимала как должное, не донимала уговорами и просто ждала, что скажет.
Зачем-то же он все-таки приехал.
Он сказал:
— Его нет в Москве. Я знаю. Ждал, когда уберется куда-нибудь подальше. А ты… Я долго думал, но потом решил: ты должна знать. Слушай! Вива умирала долго… — Впервые голос его дрогнул, и пауза повисла в воздухе. Доктор Надебаидзе собирался с силами, чтобы продолжить. — Об этом я тебе рассказывать не буду. Это наше. А ты теперь чужая. Молчи! Знать ничего не хочу! Только слушай! Уже перед самой смертью она призналась мне… Покаялась… Ее я простил. А его… Короче, не девочка, сама понимаешь, о чем речь.
— Антон с Вивой?!
— Да! Сучьи вы дети! Да! Спал. Почти все время, что жил у нас, ел, пил из моих рук. И спал с моей женой. Пока не надоела. А когда надоела, бросил, да еще отпихнул, как собаку, пригрозил, мерзавец, что расскажет мне. Зачем не рассказал?! Я бы его убил, и она не мучилась бы, умирая. Моя Вива!!! А ты, неблагодарная скотина, знаешь, кого она звала, когда уже двумя ногами стояла в могиле? Знаешь? Его!!! Не меня.
Он кричит.
Гневно выплевывает раскаленные слова мне в лицо.
И бессильные яростные слезы стекают по впалым щекам, густо заросшим седой колючей щетиной.
— Я не знала…
Что я еще могу сказать? Бормочу еле слышно. Но он слышит.
— Теперь знай! Знай, каков твой Антоша! И еще знай: год пройдет, два, три… Жить будете в своих хоромах, есть на золоте, в золоте купаться, обо всем забудете. Вы, Иваны, не помнящие родства! Я умру. Но там не забудут! — Он неожиданно резко вскидывает палец к небу.
Скрюченный, дрожащий старческий палец с длинным нечистым желтым ногтем.
Боже правый, куда ж подевались тонкие, ловкие пальцы гения?
Где смуглые изящные руки, ухоженные, как у потомственного аристократа?
Где он вообще, профессор Надебаидзе, обаятельный, насмешливый, ироничный?
Умер, отмучился вместе со своей неверной Вивой?
Яростный, бесноватый старик между тем брызжет слюной и, потрясая крючковатым пальцем, выплевывает вместо слов свою боль.
— Там все помнят. И однажды — можешь не сомневаться! — он не просто умрет. Все умирают. Он страшно умрет. Сдохнет. Так страшно, что даже я не могу придумать. Ты поняла?
— Поняла…
Прав, наверное, доктор Надебаидзе.
Определенно прав, я — самая что ни на есть неблагодарная скотина.
Не потому только, что предала однажды его и Виву.
Со мной и теперь происходит нечто недостойное по определению — во мне закипает злость.
И ничего нельзя с этим поделать, хотя некоторое время пытаюсь сдержаться.
Не получается.
— Я поняла, не кричите. Чего вы ждете от меня? Ревности? Удивления? Ярости вроде вашей? Ничего не будет. И знаете почему?
— Ничего я не хочу больше знать… — Он устал. Приступ ярости отступил так же внезапно, как начался. А может, и не отступил вовсе — перекинулся на меня.
— И все же выслушайте. Я же слушала вас. Это не займет много времени. Откровенность за откровенность, Георгий Нодарович. Вы раскрыли мне тайну, полагая, что это страшная тайна? Да? Думаете, я не ожидала от него ничего такого? Думаете, Тоша в моих глазах исключительно «розовый и пушистый»? Тогда вот вам настоящая страшная тайна. Вам ведь сказали в тот вечер, что в приемный покой привезли девушку, которая выбросилась из окна. Правда? Вы потому и ринулись меня спасать, что первым делом вспомнили Лали. Скажете — нет?
Он вздрагивает, когда я произношу имя дочери.
Пытается возразить или оборвать меня — но лишь слабо взмахивает рукой.
Вспышка ярости сожгла последние силы.
А меня все терзает злой бес:
— Можете не говорить, никому не нужны ваши признания. Я точно знаю, что это было именно так. А теперь скажите, профессор, стали бы вы спасать меня, если б узнали, что никогда — слышите, никогда! — по доброй воле я не пыталась уйти из жизни. И не прыгала из окна…
— Не прыгала?.. Я же видел тебя на столе, латал твое легкое, собирал позвонки… Где же… Что ты хочешь сказать? Ты не прыгала… значит, тебя…
— …выбросили. Кто это сделал, надеюсь, ясно. Вы ведь тоже не маленький.
Черт побери, оказывается, это все еще волнует меня.
Слезы — откуда ни возьмись — подступают к глазам, так становится жалко себя, тогдашнюю. Доверчивую сентиментальную дурочку, позволившую вышвырнуть себя из окна, а позже — объявить самоубийцей.
Впервые за двадцать лет эта мысль прорывается в сознание и поднимает в душе целую бурю.
Бог ты мой, ведь никто никогда ни разу не пожалел меня, пережившую такое…
Я уже реву в голос.
Проходит вечность, прежде чем истерика стихает.
Все это время он сидит, уронив голову на грудь. Слегка успокоившись, слышу тяжелое, хриплое дыхание и в какой-то момент начинаю сомневаться, не заснул ли профессор, совершенно по-стариковски, в середине беседы.
Если то, что происходит сейчас между нами, можно назвать беседой.
Но он не спит, поднимает голову — мутный, тяжелый взгляд упирается в меня:
— Но послушай… разве ты не понимаешь, он не должен жить…
Такая простая и ясная мысль.
Я даже замираю на мгновение и перестаю дышать.
Господь вседержитель, почему же раньше я никогда не думала об этом?
Озарение.
И сразу же — напрочь забыв о докторе Надебаидзе, вине перед ним, обиде на него, жалости к себе — начинаю думать.
Полагаю, нет необходимости объяснять — о чем.
С этой мыслью я жила довольно долго.
Вынашивала, как ребенка, которого — к слову — у нас не случилось.
Решение было принято — и сомнения отброшены в сторону. Да и не было, откровенно говоря, никаких сомнений.
Что до решения, оно — полагаю — зрело во мне долгие годы, а потом — когда время пришло — упало в руки, как спелый плод.
И пусть в сплошную канонаду сливались тогда в России одиночные выстрелы наемных убийц, автоматные очереди прошивали известных предпринимателей, взлетали на воздух бронированные автомобили. И яды шли в дело, и более совершенные отравляющие вещества.

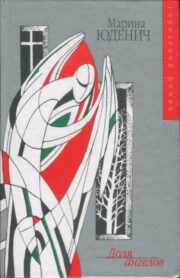
"Доля ангелов" отзывы
Отзывы читателей о книге "Доля ангелов". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Доля ангелов" друзьям в соцсетях.