Екнуло что-то в сердце, зябкая дрожь пробрала душу.
И — затемнение. Как в театре.
А сон продолжался.
Видел большую комнату с тяжелым дубовым столом посередине. Массивные стулья, обтянутые потускневшим гобеленом. Закопченный камин. Большой настоящий очаг, в котором когда-то, подгорая на вертеле, румянились жирные туши. Стена над ним украшена древними изразцами.
Здесь и теперь, похоже, трапезничали. Где-то поблизости — кухня, оттуда аппетитно тянуло жареным мясом и душистыми травяными приправами.
Сейчас было пусто, я — не без опаски — двинулся дальше.
Увидел узкую винтовую лестницу без перил, с шершавыми ступенями песочного цвета. Такими же, кстати, были стены. Никакой тебе штукатурки и прочих современных штучек.
Свечи в круглых стеклянных плафонах расставлены прямо на ступенях. Живой пугливый свет струится низко по каменной поверхности и вроде зовет за собой наверх.
Я было собрался. Не вышло!
Кто-то окликнул из темноты. Негромко. Однако ж неожиданно. Споткнулся, едва не растянулся на первой ступени.
— Хотите комнату, дорогой?
Сказано было дружелюбно. Голос ласковый.
Однако ж — не по себе.
Кто там, за спиной, на самом-то деле? Какая еще такая нежданная встреча?
Проснулся в лихорадочной тревоге.
День промелькнул — незаметно, скомканно, бездарно.
Наступила ночь — забылся.
Сон пришел сразу, будто и не просыпался накануне. Должен сказать, со мной такое приключается редко: чтобы один и тот же сон — две ночи кряду, наподобие мыльного сериала по ящику. Было пару раз. А затем — помню точно — подступали большие проблемы. Неприятности крупного калибра шли буквально косяком. Сезон штормов. И каких!
По всему выходило, надлежит готовиться к худшему.
А пока — снился пыльный полумрак старинного жилища. Лестница, мерцающая свечами передо мной.
И забавная тетка непонятных лет. Из тех — знаете? — у которых двадцать — в голове и шестьдесят — в паспорте. С буйной копной светлых волос, расчесанных без особого усердия. Вся в золотых браслетах, кольцах, серьгах. Одетая на манер английской наездницы: в приталенный пиджак из ткани «принц Галльский» и бриджи шоколадного цвета. На ногах — башмаки от Tod’s. В углу ярко накрашенного рта намертво прилипла дымящаяся сигаретка. Голос — низкий, с хрипотцой.
— Хотите комнату? Это можно. Придется только подождать, пока проснется дочь. Она занимается всеми вопросами. Бумажными. Денежными, в смысле — финансовыми. Не беспокойтесь! Ждать придется недолго, она встает чуть свет. Такая вот добровольная пытка — подниматься спозаранку. По мне уж лучше не ложиться вовсе. Не находите?
Говорила охотно, весело, но как-то небрежно, перескакивая с одного на другое.
Бесшабашная старушенция.
— Откровенно говоря, не задумывался. Но, пожалуй, соглашусь. Люблю поваляться в постели. А ложусь поздно.
— Вот-вот. Со мной та же история. А она, бедняжка, еще так молода, но — представьте! — чуть ли не с детства взяла себя в жесткую узду. Притом исключительно по собственной инициативе. Детей иногда калечат родители. Здесь не тот случай. Я-то как раз больше всего на свете ценю свободу. Категорически. Всю жизнь — с незапамятных времен. Вудсток[7], Хейт, Сен-Луи[8]… Вот — кстати! — о времени. Там, бывало, если спрашивал кто — который час, в смысле какое теперь время дня, — отвечали: хорошее. Или плохое[9]. Такие были времена, такие нравы. Вы не застали?
— Нет, не пришлось.
— Жаль, дорогой. Это было чудесно. Словами не передать. Ну да ладно. Не хотите пока взглянуть на комнаты?
— Почему бы нет?
— Так пошли!
Мы поднялись по лестнице, прилепившейся к шершавой стене.
Разбитная старушка, непринужденно болтая, вела за собой дальше, по узкому коридору, предлагая — на выбор — свободные комнаты.
Были они разными, совершенно непохожими на обычные гостиничные номера.
Каменный пол, неотесанный, но отполированный сотнями ног. Витражи в узких оконцах. Кровати с балдахинами. Ванны за ширмами. Потемневшие полотна: охотничьи пейзажи и портреты — самодовольные дяденьки с лукавыми глазами, в нарядных камзолах с кружевными жабо.
Кованые ручки дверей глухо позвякивают по темному дереву.
Тихо. По-домашнему уютно, но одновременно торжественно и немного таинственно. Попал будто бы в декорации «маркизы ангелов Анжелики». Если не больше — угодил в ту самую эпоху.
Смотреть бы и радоваться.
Я смотрел. И радовался. По крайней мере получал эстетическое удовольствие.
Однако ж до поры.
Гривастая старушка, позвякивая браслетами, провела меня по второму этажу, и тут…
Вижу, что лестница идет дальше, есть — по всему — и третий, но дорогу туда преграждает бархатная колбаска. Упитанный такой шнурок, натянутый поперек ступеней. Для полноты картины не хватает таблички «Private room». Но в том-то и дело, что никакой таблички нет. А я с детства страсть как любопытен, особенно если что-то запретное. Или ограниченное для доступа. Короче, захотелось подняться, осмотреть…
Старушенция тем временем вроде бы навострила лыжи обратно.
— Секундочку, — говорю, — мэм, желательно пройти этот путь до конца.
Она — в непонятку:
— Какой такой путь?
— Да вот, — говорю, — видимо, недалекий. Люблю, знаете ли, чтобы повыше. В penthouse.
Мадам улыбается. Но башкой мотает отрицательно. Шутку, дескать, оценила, но ничем помочь не могу. По причине отсутствия penthouse в нашем отеле.
Но я не унимаюсь:
— Это не страшно. На безрыбье, как известно… Короче, этаж, к примеру, третий меня вполне устроил бы. А если — паче чаяния — имеется чердачное помещение, еще лучше.
— Нет, — отвечает дама. — Никаких чердаков. Этажей всего два.
— Куда же в таком случае ведет лесенка?
И началось.
Нет, я не псих, не маньяк, не упертый осел.
Скажи она: на третьем у нас офис или частные апартаменты, комнаты прислуги — да что угодно, черт побери! — отстал бы мигом. Успокоился и напрочь забыл о том, что проклятая лестница существует на свете.
Так нет же!
Она говорит другое.
Она удивляется совершенно, между прочим, искренне:
— Какая лесенка?
— Да вот эта.
— Не понимаю о чем вы, месье.
Я разозлился.
Глупость вообще действует на меня, как красная тряпка на быка, тем более такая очевидная.
И уж тем более ненавижу, когда мне врут.
А выходило, как ни крути, — или дурачилась старушка, или была просто дура.
— Не понимаете, мэм? Объясню сию минуту.
С такими словами — прыгнул на чертову лестницу.
То есть собирался прыгнуть, занес было ногу, корпус двинул вперед со всей решимостью. Рассчитывал, знаете ли, снести мерзкий шнурок, выдернуть с потрохами.
Не вышло.
Потому что вдруг, ни с того ни с сего, как гром с ясного неба, поразил меня страх. А вернее, ужас.
Словно призрак кого-то, совершенно точно ушедшего, — бледный, с запавшими глазницами — встал на пути. И протянул руку. Тонкую, изможденную вроде. Но — жуткую. Потому как несло от этой руки гнилым духом тлена и холодом могильным. И пот ледяной, трупный проступал на увядшей коже.
Видел я такую руку однажды. И тянулась она ко мне, словно хотела утащить за собой в могилу. Я тогда отшатнулся. Не сумел скрыть брезгливого страха. А та, что стояла на краю, вдруг засмеялась. Тихо и так страшно, что волосы у меня встали дыбом. И спросила:
— Ты уже боишься? Рано.
Я тогда не понял этого «уже». И про «рано» тоже ничего не пришло на ум. Решил: бредит несчастная, заговаривается, потому что отходит.
Она и вправду отошла через пару минут после того, как спросила.
Я и забыл про все, послал Господь такую милость.
Да, видно, не навсегда. На время.
Теперь вспомнил.
Точно. Никакой не призрак, она, покойница, стояла на ступенях. И свечи мерцали у ног. И руку ко мне тянула.
А я — хоть и жутко было, спазм удушливый перехватил горло, в глазах потемнело — на призыв отозвался. Протянул руку.
Так бывает во сне: хочешь крикнуть — не можешь. И напротив — не хочешь идти, бежать, прыгать. Знаешь, что впереди — пропасть, увечье, смерть. Но идешь.
Вот и я. Не хотел, боялся, знал, что последует жуткое. Какая-то небывалая мука. Но рука моя — будь она трижды неладна! — двинулась навстречу ее руке. Медленно-медленно, как в кино. Словно нарочно, чтобы продлить пытку…
Кажется, я заорал нечеловечески.
И все. Оборвалось.
Проснулся в холодном поту.
Следовало бы радоваться: кошмар остался во сне.
Однако ж ни черта подобного.
Потому что на самом-то деле во сне остался маленький замок, кудлатая хозяйка, непонятная лестница, ведущая в никуда, и та, что стояла на ступенях.
А кошмар хищной тварью вцепился в душу и, болтаясь на ней, кровоточащей, просочился в реальный мир.
Ночь пришла, я заснул, а душа моя, оказавшись на свободе, вдруг испытала приступ небывалого страха.
Все сошлось воедино.
Натерпелась, бедолага, прошлой ночью.
Все стояла перед глазами таинственная лестница в старом замке, будь она трижды неладна!
Любопытство разбирало. Непонятно было. Тревожно. Словом, можно сказать: колбасило основательно.
Но — как бы там ни было отправилась в путь.
И увидела замок из белого камня. Он стоял на берегу озера и отражался в зеркальной глади. Красивый, надменный, уверенный в своей неотразимости.

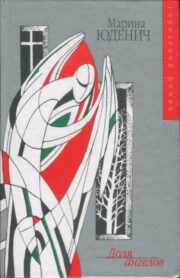
"Доля ангелов" отзывы
Отзывы читателей о книге "Доля ангелов". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Доля ангелов" друзьям в соцсетях.