— Это еще зачем? Я спрошу — она ответит. Ты что, мне не веришь?
— Я тебе верю. Но ты еще не читал этого. Потому — объяснять долго.
— А ты попробуй. Вкратце, телеграфным стилем. Не люблю, знаешь ли, импульсивных решений. Тем более — твоих. Побаиваюсь. Сделай милость, успокой старика.
— Хорошо. Вкратце: мне сейчас не так уж важно, где и с кем именно Антон был во Франции. Важнее: что там произошло?
— С ним?
— С ним. Или — вообще. Может, кстати, ничего из ряда вон выходящего не происходило, по крайней мере для всех прочих. Но они — прочие — были вместе с ним. И значит, видели кое-что… Не могли не видеть.
— Что видели?
— Замки, лестницы, парки… пейзажи, интерьеры… Не знаю. Что-то же они там видели?
— И сейчас тебе кажется, что это важно?
— Именно так.
— После того как прочла Антонов опус?
— Да.
— Хорошо. Я устрою вам встречу. Прямо сейчас. Только…
— Неприкосновенность шевелюры гарантирую.
— Фу! Об этом я даже не думал.
— Потому что ты не женщина.
— Справедливо. Однако ж мордобитие я в принципе исключил отнюдь не поэтому.
— Интересно — почему?
— Ничего интересного. С какой, собственно, стати ты станешь цепляться за ее шевелюру? Отсутствие мотива, матушка, — еще не отсутствие состава, но серьезный изъян в структуре обвинения. Тебе ведь это совершенно безразлично. Теперь — тем более. Да и прежде, думаю, не слишком беспокоило. Разве что в прошлом. Далеком-предалеком. Чего уж сейчас-то трепать шевелюру?
— Но у нее-то — не в прошлом?
— У нее — нет. — Птаха смотрит на меня серьезно и укоризненно. — Ей, знаешь ли, сейчас не до потасовок… В общем, горе у нее, хотя тебе, наверное, не слишком приятно это слышать.
Ошибается Птаха.
Мне безразлично. Параллельно, как говорил Антон.
Горюет — так что же? Мало ли народу печалится теперь на планете!
Пусть горюет сколько душе угодно.
Главное — чтобы заговорила, рассказала.
А еще главнее — чтобы было о чем рассказать.
Искомое порой является неожиданно, совсем не там, где собираются искать.
Так и вышло.
Не без колебаний, к тому же заметно волнуясь, Птаха исполнил все, как требовалось.
Она, «девица на замену» — так обозначился когда-то в сознании образ и, надо сказать, прижился вполне, — похоже, не колебалась и даже не задавала вопросов.
Встреча была назначена. И предстояла уже через пару часов.
Совершенно свободных.
Процесс искупления чужой вины, возврата чужих долгов и собственного поэтапного социального самоубийства уверенно катится по накатанной колее. Независимый, неуклонный и неумолимый.
Моего присутствия уже почти не требуется.
Внушительный том «Желтых страниц» — первое, что бросается в глаза в приемной.
Забавно.
Справочник наверняка был здесь всегда. Просто у меня не было в нем нужды. Теперь возникла. Едва ли не подсознательно.
Пункт номер четыре из утреннего списка — туроператор. Индивидуальный тур. Разумеется, во Францию, правда, еще не известно, куда именно, но это вопрос времени.
Двух часов, если быть точной.
Пока — не случайно же книжка попалась на глаза — можно просто проглядеть туристические агентства. Наверняка их тьма-тьмущая. Проще, наверное, расспросить знакомых. Того же Птаху, к примеру.
Но время есть.
И толстая книжка дешевой газетной бумаги уже на столе, раскрылась — между прочим, нечаянно — на букву «Т».
Бог мой, как погано, наверное, ощущают себя сегодня клерки бывшего советского «Интуриста» — когда-то великого и могучего. А главное — единственного в огромной стране. Сколько людей, трепеща, униженно обивали пороги нашей «конторы Кука» в вечном стремлении познать иные края, океаны и континенты — или на крайний случай разжиться парой приличных джинсов и пакетиком жвачки. Иное дело — теперь. Клоны Кука числом несколько сотен — только в Москве — наперебой зазывают путешественников в самые экзотические уголки планеты.
Без особого усердия листаю тонкие страницы — бесконечные «…туры», «…вояжи», «…трэвелы».
Уже рябит в глазах.
И вдруг — знакомое лицо в толпе. В океане чужих и чуждых физиономий. Мимолетно, вскользь. К тому же почти забытое. Кто-то — из прошлой жизни.
«Майя-тур».
Разумеется, «тур», как иначе на этой странице?
А вот Майя…
Майка Печенина.
Она училась со мной на юрфаке. Не подруга и даже не приятельница — однокурсница. Человек, впрочем, симпатичный, неглупый, веселый, в мелких гадостях, равно как и большом свинстве, не замеченный. Иногда мы ходили за компанию есть пирожки в стекляшку напротив «Библиотеки», курили на глухой лестничной площадке, трепались о чем-то мимолетном. Потом — как бывает обычно — потерялись, немедленно после государственных экзаменов и выпускного загула. И встретились, как — опять же! — случается чаще всего, неожиданно, на улице. Вернее, на «зебре» пешеходного перехода. Между прочим, в двух шагах от стен alma mater…
Я опаздывала на открытие какой-то выставки в Манеже. Официальной и официозной, потому — в присутствии высоких особ.
Опаздывать — стало быть — не с руки.
Но машины ползли черепашьим ходом.
Чертыхаясь, я выскочила у светофора.
Мчать к парадному подъезду рысью было — понятное дело — не слишком приятно. Выбирать, однако ж, не приходилось.
Слава Богу, горел зеленый, толпа деловито шлепала по переходу. Обгоняя зевак, я старательно перепрыгивала лужи: грязные туфли на сияющем паркете — зрелище безобразное.
Тихий оклик откуда-то сбоку — надо ли говорить? — был некстати.
На ее, Майкино, счастье, в пригласительном билете предусмотрено, как принято, два лица. А второе — Антоново — на ту пору отсутствовало в стране.
Мы не опоздали, хотя этого, разумеется, никто не заметил. Церемония чинно двинулась по наезженной колее.
Появилось время поговорить.
Разговор, однако, получился невеселым.
Я помнила, что она училась хорошо, подавала надежды, которые и сбылись поначалу: по распределению Майка попала в серьезный академический институт. Открылись — что называется — перспективы.
Но ненадолго.
Она и теперь работала в том же институте, старшим научным сотрудником. Успела защитить диссертацию.
Ей платили зарплату, равную примерно половине тех денег, что стоил обед, съеденный нами в ресторане «Maksim’s» — на углу Манежной и Тверской.
Теперь московского «Maksim’s» больше нет. А жаль. Он был уютным и вкусным.
Мы, кстати, хорошо посидели в тот раз и выпили, разумеется, бутылку моего любимого розового «Cristal».
И может, оттого, что легкий хмель растрепал чувства и развязал язык, я задала неуместный, к тому же едва ли не риторический вопрос.
Во-первых, потому что следовало бы пощадить Майкины чувства.
Во-вторых, в силу собственного глубокого убеждения. Человек — какая бы напасть ни случилась — обязан бороться. Биться до последнего. Любой ценой держаться на плаву. Идти на что угодно, но только не сидеть сложа руки, проклиная невезение и проливая слезы.
— Послушай, а какого, собственно, дьявола ты до сих пор торчишь в этом своем НИИ?
Она взглянула затравленно.
— А где еще я нужна?
— Юрист? С университетским образованием? Кандидатской степенью? Твоими мозгами, наконец?
— Ты не помнишь, конечно, но со студенческой скамьи я занималась государственным правом. Знаешь, как звучит тема моей диссертации? Советская социалистическая федерация как оптимальная форма государственного устройства… Ладно… зачем повторять всякую галиматью? Смешно, да?
Она заплакала.
Стыдливо отвернула лицо к окну, но там, за окном, была улица, как всегда, запруженная народом.
Народ заглядывал в большие нарядные окна, не скрывая любопытства. Кто там ест, пьет, с кем общается в дорогом ресторане?
Она испуганно отпрянула от окна, взглянула на меня — совсем уж потерянно и жалко.
— Совсем не смешно. Все учили эту галиматью про совершенные социалистические формы. Ничего, переучились на ходу.
— Я не переучусь.
— С чего ты взяла?
— Пыталась. Не раз. Рассылала анкеты. Разносила. Знакомые пристраивали в какие-то фирмы. Резюме, как теперь говорят. Потом — ходила на собеседование. Интервью. Везде одно и то же: «Вам необходимо освоить новую нормативную базу. Хозяйственное право, финансовое, международное…»
— Так освой! Ты же хорошо училась.
— Плохо.
— Не поняла?
— Я не училась. Я зубрила. Понимаешь, постигала задницей. Теперь так не получится. Годы не те. И материал не тот. Этот — не заучишь. Соображать надо. А я не могу. Ни строчки не могу усвоить. Ничего не лезет в голову. Господи! Если бы ты знала, как я ненавижу эту проклятую юриспруденцию!
— Но зачем же тогда…
— …пошла на юридический, хочешь сказать? Потому что семья… традиции… преемственность. Боже мой, я их тоже теперь ненавижу. Представляешь? Отца, деда, мать — всех… С их идиотским идеализмом.
— Так, приехали. Погоди. Про это поговорим как-нибудь в другой раз. Не обижайся, но если теперь удариться в эмоции, я вряд ли смогу помочь. К тому же ошибки предков — дело прошлое. Что за толк швырять камни вслед поезду, который давно ушел?
— А в чем вообще есть толк?
— В том, что тебя ничего не связывает с профессией. Ни любовь, ни привязанность. О перспективах нет и речи. Только времени потраченного жаль. Ну так следует по крайней мере сделать надлежащие выводы.
— Я не понимаю.
— Вот и я не понимаю, во имя чего ты продолжаешь транжирить жизнь. Годы, между прочим, идут, извини уж за банальность.

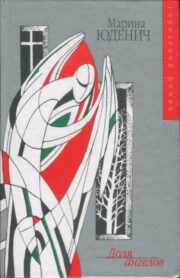
"Доля ангелов" отзывы
Отзывы читателей о книге "Доля ангелов". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Доля ангелов" друзьям в соцсетях.