— Но что я могу?
— Все, что угодно! Но сначала остановись, проснись, пошли свою академическую богадельню куда подальше. Займись делом.
— Каким?!
— Не знаю. Выбирай. Переквалифицируйся, как говорили раньше. Теперь говорят — вертись. Торгуй газетами, пивом, сигаретами в подземном переходе. Съезди в Турцию, купи кожаные куртки, спортивные костюмы, трикотажные шмотки — продай в Москве на рынке.
— А денег на Турцию где взять? Сэкономить на завтраках? Не получится — потому что завтраков практически нет. Макароны вареные присыпаю слегка тертым сыром, масла сливочного кусочек, крохотный такой — помнишь? — как раньше в столовых давали. И чай. Правда, с сахаром, Бога гневить не буду. С сахаром. Такой вот готовлю завтрак. Каждый день. Мужу… он, кстати, в той же академической богадельне штаны протирает, за еще меньшие деньги, между прочим. Потому что до мэнээса только дослужился. Сыну-восьмикласснику. На чем же здесь сэкономишь? А насчет сигарет и пива… Посмотри на меня, ты правда думаешь, что я смогу… в подземном переходе? Не из гордости, конечно… Какая уж теперь гордость? Хотя представить трудно — с сигаретами, у грязной стены. Бомжи рядом, нищие побирушки… Но я не об этом. Это — как теперь говорят — мои проблемы. Я вообще, в принципе. Ты же умная, у тебя опыт, успех… Ты людей должна видеть насквозь, как на ладони. Кто чего стоит, на что способен. Посмотри на меня! Я действительно приживусь в подземном переходе? Заработаю хоть копейку? Меня не прибьют в первый же день? Не отнимут последнее? Не заберут в милицию?
Слезы высохли, и даже лицо разрумянилось.
Немолодое, осунувшееся, нездоровое лицо. Кстати — я не сразу узнала ее сегодня.
Позже, исподволь, пару раз заглянула в зеркало, пытаясь сравнить, а вернее, боясь обнаружить у себя те же неумолимые приметы.
И вздохнула с облегчением — ничего похожего не наблюдалось.
В чем, кстати, нет генетического чуда или большой моей заслуги. Титанического, к примеру, труда. Антон однажды — в очередном припадке жадности — подсчитал: на поддержание внешности трачу около сорока тысяч долларов в год.
Вернее, тратила.
Теперь, надо полагать, камешек сорвется, покатится с горы — погоня за неузнаваемо постаревшей Майкой будет короткой. И займет совсем не много времени.
Красота не требует жертв. Это теза времен тугих корсетов на китовом усе, дышать в которых было почти невозможно, а двигаться — в высшей степени затруднительно.
В наши дни красота требует финансовых вложений. И только.
Впрочем, эти мысли пришли много позже.
Тогда — упоительное сознание очевидного собственного превосходства. Более — ничего.
Правда, Майкино разрумянившееся лицо разглядывала уже по другому поводу.
Она права: очень важно понять на старте, кто на что способен, чего — не сможет выполнить никогда. По определению.
Я поняла.
Идея отправить Майку торговать в переходе оказалась действительно не самой удачной.
Турецкий вариант был немногим лучше.
Я умею признавать ошибки.
— Нет, не приживешься.
— Вот именно. И что в таком случае делать?
— А что тебе вообще хотелось бы делать?
— В каком смысле? — Майка оторопела. Беседа из русла унылой необходимости внезапно вырвалась на оперативный простор.
— В прямом. Кем хотела бы стать?
— Сейчас?
— В институте ты, по-моему, играла в теннис. Уимблдон — понятное дело — исключается.
— Не знаю.
— Знаешь наверняка. Просто никогда не задумывалась. Не смела. Потому, может, и сидишь до сих пор в своей богадельне.
— Ну, не знаю… Слишком уж все просто получается. Стоит, по-твоему, только изобрести для себя что-нибудь эдакое… привлекательное — и дело в шляпе?
— Не в шляпе. Или по крайней мере не сразу. Но вполне может оказаться. Потому что заниматься увлекательным делом — как бы это сказать? — сподручнее, что ли. Не проще, но легче. Понимаешь, о чем я?
— Понимаю. Но ведь что бы я ни придумала, начинать все равно придется с экономии на завтраках… Изыскать начальный капитал, выражаясь языком современным. Круг — как видишь — замкнулся.
— А ты все равно подумай. Надумаешь — позвони. Поразмыслим, на чем еще можно сэкономить…
Прощаясь, она сбивчиво — и, похоже, презирая себя за это — благодарила за обед, «который, наверное, станет самым ярким воспоминанием…». За то, что терпеливо слушала. За что-то еще…
Бестолково, жалко.
И ни слова о том, ради чего — собственно! — я разорялась битых пару часов. О желании подумать о будущем.
И вообще — подумать.
Было как-то со мной такое.
Ворох старых фотографий сожгла в камине неуютным осенним вечером.
За окном безобразно выл взбесившийся ветер — в унисон тоскливо скулила душа.
В огонь тогда отправился целый пласт прошлой жизни. Без малого десять лет.
И никто не узнает теперь, какова я была в ранней молодости. Кроме тех, разумеется, кто помнит. Только их — слава Богу — осталось совсем уж немного.
Потому что была я в ту пору не слишком хороша собой.
Жалкий, затравленный заморыш на тонких ножках. С идиотской «тифозной» стрижкой, испуганными подслеповатыми глазами. Очков — даже в дорогой французской оправе — стеснялась, торопливо сдергивала перед объективом фотокамеры. Глаза становились еще более испуганными, чем обычно. А обычного, между прочим, хватало с лихвой. Незнакомые люди, бывало, участливо интересовались на улице: «Девушка, у вас что-то случилось?»
Все, слава Богу, существенно изменилось потом, с годами.
Гадкий утенок, как полагалось, стал лебедем. Не таким, возможно, прекрасным, как в сказке. Но сложился вполне. В соответствии со стандартом породы.
Пепел сгоревших фото давно рассеялся. Лет с той ветреной ночи прошло немало. И затравленное, неуклюжее собственное убожество — честное слово! — почти забылось.
Но забавно порой шутит судьба! Вспомнилось неожиданно и престранно. И не вспомнилось даже — увиделось, близко, в упор. Отнюдь не на старом фото, избежавшем огня.
Много интереснее.
Вдруг возникло мое отражение, помолодевшее на двадцать с лишним лет и соответственно подурневшее.
Вдобавок, повторяя мои тогдашние привычки, оно — отражение — так же часто и нервно поправляло указательным пальцем очки, упорно сползавшие по переносице. Оправа была тяжелой, массивной — этому лицу совершенно не подходила.
Я подумала: «Ну ладно, тогда, в восьмидесятом, хорошей оправы было не найти. Схватили ту, что попалась под руку, благо модная, французская, дорогая. Теперь-то, слава Богу, никаких проблем. Зачем же так-то себя уродовать? Неудобно к тому же. Помню — оказывается! — по себе. Вечно сползала с носа, тяжелая была. Уши болели».
Тут же одернула себя.
Бред — потому что — вышел полнейший. Какой — к черту — восьмидесятый? При чем тут уши? И я — при чем?
Маленькая — именно маленькая, а не молоденькая даже — девчушка сидит напротив, как две капли воды похожая на меня двадцатилетней давности.
Это явь, разумеется, — никакое не отражение.
Просто очень похожая девочка. Только и всего.
И возможно, будь у меня дочь, в свои двадцать она выглядела бы так же.
Только это, разумеется, никакая не дочь. Соперница. Правда, бывшая, потому как предмет притязаний скоропостижно покинул этот мир. Почил в бозе.
Прости, Господи, мою грешную душу!
А девчонка — неожиданно — вызывает симпатию.
Впрочем, чему уж тут, собственно, удивляться?
Похожие люди обычно привечают друг друга. А она действительно похожа на меня, бывшую.
Неужели ему действительно нравились такие женщины? Нескладные, неуверенные, неуклюжие?
Или это дурацкая попытка вернуть прошлое? Вернуться в прошлое?
Но зачем?
Мужская вариация классического кризиса середины возраста? Слишком примитивно для Антона.
Тогда — что?
Не знаю, не нахожу ответа.
А девочку искренне жаль.
— Где вы теперь? — идиотский вопрос. Но надо же с чего-то начинать.
— Вы… о доме? Освободила. Сказали, в течение трех дней…
— Кто сказал?
— Комендант поселка. Такой… пожилой отставник, говорит очень громко. Помните? Антон говорил, вы там тоже жили когда-то… — Она осекается на полуслове. Думает, что сказала что-то ужасное. Неприличное. Оскорбительное. — Простите…
— Да за что же? Действительно жила. И отставника помню. Продажная угодливая тварь.
— Да он… Правда. Лебезил всегда перед Антоном. А когда… все случилось, пришел… ну и совсем уже по-другому…
— Велел убраться в течение трех дней.
— Да… — еле слышно. И кажется, собирается заплакать. Страшные, наверное, были три дня.
— Сейчас есть где жить?
— Да. У мамы. У нас квартира в Сокольниках. Однокомнатная.
— Вам легче.
— Что?
— Да ничего, собственно. Хорошо, что было куда уехать.
— Да.
Повисает пауза.
Не слишком длинная, но за это время она умудряется натворить многое. Уронить наконец очки. Не куда-нибудь — в нетронутую кофейную чашку.
Мы встречаемся в милой, уютной кофейне, затерянной в кропоткинских переулках. Здесь всегда тихо, днем — почти пусто. А кофе дают приличный.
Он теперь растекается вязкой бурой лужей по белой скатерти.
А она пытается удержать чашку и очки одновременно. И конечно, неудачно. Все летит на пол.
«Хорошо бы очки не разбились, — отстраненно думаю я, — придется ехать в ближайшую оптику. Не бросать же слепую курицу на произвол судьбы. Практически — на погибель».
Хорошо, оказывается, помню, каково это — без очков на улице, с близорукостью в шесть диоптрий. У меня когда-то была именно такая.

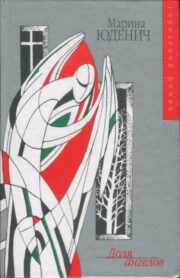
"Доля ангелов" отзывы
Отзывы читателей о книге "Доля ангелов". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Доля ангелов" друзьям в соцсетях.