Мы простились у металлической стойки таможенного контроля.
— Все же… сообщите, если что. Я на связи.
— Обещаю: о моей смерти ты узнаешь первым…
— Типун вам…
— Бывай.
И все.
«Новый мир», в который я погружаюсь теперь со всей отчаянной решимостью, ныряю «рыбкой», вниз головой, будто с головокружительного трамплина, — действительно оказывается новым.
Неузнаваемым.
Совершенно непохожим на тот, сияющий и почти недосягаемый когда-то. Имя ему в приснопамятные годы было — международный аэропорт Шереметьево-2.
Оно звучит так же, но только по форме — по содержанию это был совершенно другой мир. Вернее, осколок другой вселенной, крохотное зеркальце, что обронила в спешке легкомысленная пассажирка-инопланетянка в дамской комнате.
К нему, к чужому потерянному зеркальцу, прилагалось нечто невообразимое: настоящие мерцающие бары с высокими стойками и табуретами, правильными бокалами, льдинками и соломинками.
И бары те работали круглые сутки напролет.
А возле них…
Каких только невообразимо красивых людей, похожих на стадо лиловых фламинго, не доводилось нам наблюдать издалека у этих волшебных оазисов.
Теперь я знаю — это были обычные стюарды и стюардессы, пилоты и, может, техники, случались, наверное, пассажиры.
Теперь я уверена: не пройдет и часа, гибкая пария из тех экзотических красавиц с дежурной улыбкой спросит у меня, как интенсивно прожарить вырезку — mild или с кровью?
Еще мне известно, что уважающие себя пассажиры, если не случилось, конечно, какой погодной заминки, не просиживают штаны у барных стоек, прибывают строго к отлету.
К тому же есть в современных аэропортах местечки более уютные и комфортабельные.
Однако ж — теперь!
Когда-то в незапамятные времена… Двадцать два — если быть точной — года назад две тощих, лохматых особи, одинаково скверно, но с претензией одетых, примостившись подальше от людских глаз, жадно, на двоих съедали безумно вкусный бутерброд с соленой твердой сырокопченой колбасой на кругляшке душистого белого хлеба.
И были почти счастливы.
Потому что каждая про себя мечтала о тех временах, когда таким же нарядным лебедем причалит к мерцающей стойке, чтобы на скорую руку, между римской посадкой и парижским взлетом, проглотить на бегу малюсенькую чашечку кофе.
Мотив известный. Пропетый и перепетый много раз.
К тому же ночные набеги в Шереметьево, закрытое в ту пору для праздношатающейся публики заведение, случались у нас с Антоном нечасто.
Приятель-грузчик от щедрот пьющей души иногда устраивал радости жизни.
Потом… потом мы как-то сразу стали летать «через депутатский», как говорил Нодар.
Потом уж самостоятельно через приснопамятный VIP.
И собственный business-jet Citation X за восемнадцать миллионов долларов был в любую минуту готов к вылету, а аэропорты сродни британскому Biggin Hill[10] — к приему.
И черт бы с ними!
Слава Богу, от «Citation» — особой гордости Антона, самого быстрого самолета этого класса, прозванного летающим «Ferrari», — удалось избавиться на днях, потеряв на разнице самую малость.
Во сто крат больше занимает меня теперешний «Шереметьево» — воистину блеск и нищета цивилизаций.
Нарядные витрины лучших мировых марок, сотни темнокожих, узкоглазых людей, здесь же, на полу, вповалку, фривольно разметавшихся на глянцевом мраморе вестибюля.
И неизменные тетечки, невесть как протянувшие свои нагруженные котомки за бдительные таможенные кордоны. Те самые, что и двадцать лет назад вопили надрывно на перроне Курского вокзала.
И будто сошедшие с рекламы Armani джентльмены, одинаково вдумчиво погруженные в «Financial Times» и «КоммерсантЪ», и спутницы джентльменов — с обложек соседнего «Vouge».
И разумеется, вот оно — во всей своей свежей, первобытной красе, — «племя молодое, незнакомое». Ох, повернулся сейчас в своей последней обители великий пиит, да и не раз, надо полагать. Лет уж пятнадцать тянет зубки к локотку. Об этом ли грезил? Да разве ж укусишь!
Новые, «очень новые», «слишком новые» — каких только эпитетов не прилаживают теперь этой популяции соотечественников.
Я вот, к примеру, говорю: гоблины. И тоже неверно.
Ибо придумано давно и не нами — другим великим: имя им — Шариковы. И к этому — право слово — нечего больше добавить. Классика-с.
И смачные плевки на почти родосском мраморе благоухающих сортиров. Обрывки грязной ваты — не «Татрах» даже, вследствие неуемной рекламы которых менструирует как будто уже вся страна! — в изящных унитазах от Villeroy. И дружественное вполне: «Витьк, спроси у негра зажигалку»…
Это не от экономических неурядиц, долгов Парижскому клубу и даже не от какого не от дефолта.
Это от них — от Шариковых.
Ибо помню, как «Отче наш», любая разруха начинается там и тогда, где и когда существуют желающие гадить мимо унитаза.
Бог бы с ними со всеми, однако.
«Это наша Родина, сынок», — говорила однажды мама, навозная червиха, новорожденному младенцу.
Так ведь и моя — выходит — тоже.
Чего уж нос воротить!
Времени на это малопристойное занятие к тому же почти не остается.
В кармане нещадно звонит мобильный — это Птаха, уверена на все сто. Да кто бы ни был. Медленно — по возможности — опускаю серебристую коробочку телефона в элегантный мусорный бак. Прости, дружок. Так надо.
К тому же мелодичный перезвон в бесконечном людском гомоне и дежурный голос, не лишенный металла, в который уж предостерегают о вечном.
О том, что посадка на рейс авиакомпании «Air France» закончена. А пассажиры — внушительное стадо которых еще несется к заветному Gate — могут отправляться ко всем чертям.
Ничего подобного, разумеется…
Мило, улыбчиво и каждому пассажиру бизнес-класса вместе с бокалом шампанского — строго отмеренная толика галантного галльского гостеприимства.
И что-то приветливое, хотя ни черта толком не слышно.
Да и про что слушать-то? Про то, что меня в который уже раз приветствуют на борту самолета «Boing-747», выполняющего рейс по маршруту Москва — Париж…
Нечего слушать.
Эту протокольную галиматью — при желании — могу слово в слово повторить сама и прононс грассирующий, парижский изображу, пожалуй, ничуть не хуже.
Другое дело — рев турбин.
Шум двигателя заполнит собой все пространство — и нет для меня музыки более приятной, ласкающей слух и душу. Потому как она есть не что иное, как прелюдия. Увертюра к одному из самых любимых зрелищ и состояний души.
Надо ли говорить — у меня есть веские основания не любить полеты, более того — бояться.
Но я обожаю.
Мгновение, когда разогнавшийся лайнер едва уловимо отрывается от земли, наполняет мое сердце неописуемым восторгом.
Такая метаморфоза.
Еще я думаю в эти минуты, а вернее — несколькими секундами спустя, когда земной ландшафт уже отчетливо дает крен, заметно мельчают машины, строения, люди — и голубое бескрайнее небо распахивает мне навстречу объятия.
Я обязательно думаю: это начало. Непременно — начало. Там, на земле, оставлено нечто, чему пришла пора завершиться.
Порой мне становится грустно. Оставшееся внизу не так уж скверно. И греет сердце.
Порой — не греет. И радостно на душе, что завершен этап.
Но как бы там ни было — впереди восторг.
И ожидание чего-то запредельного, там, вдалеке, на другом краю воздушного пространства.
Конечно, ничего подобного не происходит. Не происходило никогда. Удачная поездка, очень удачная, менее удачная. Из рук вон скверная. В таком диапазоне. Никаких запредельностей.
Но счастье минутное, мимолетная шальная надежда — все равно со мной, в каждом полете.
Теперь — тоже.
Теперь, впрочем, немного больше оснований рассчитывать на нечто особенное.
Несколько больше.
Вопрос в том, чего «особенного» следует ждать: особой мерзости или особой радости?
Но не об этом я думаю теперь.
Маленьких радостей — тем паче таких острых — мало в жизни. Наслаждаться ими надо сполна, до донышка, до последней капли.
Кстати, о каплях.
— Минеральная вода, сок, шампанское? — Галльская улыбка, галльское радушие и поднос, уставленный небольшими — не шибко разгуляешься — рюмочками на тонких ножках.
— Коньяк. Мадам будет пить мой коньяк. Принесите, пожалуйста, бокалы.
Незнакомец в соседнем кресле материализовался будто из воздуха.
Помню точно: до той минуты, когда лайнер вырулил на взлетную полосу и, получив добро диспетчера, стал набирать скорость, а затем и высоту, — рядом не было никого.
Кресло пустовало, и, прежде чем насладиться радостью первых мгновений полета, успела мельком заметить: «Вот славно, потом можно будет даже прилечь».
Надо думать, он подсел в те минуты, когда я безраздельно наслаждалась расставанием с землей.
Ничего особенного и даже странного.
Салон бизнес-класса заполнен ровно наполовину, до взлета пассажиры фланировали почти произвольно.
Мог бы, конечно, спросить разрешения, но вполне вероятно, что спрашивал.
А я не ответила, потому что не слышала и не видела ничего вокруг.
Бог бы с ним.
Но коньяк — да еще так безапелляционно, — пожалуй, перебор.
На самовлюбленного нувориша, убежденного в том, что власть, обаяние и слава его безграничны, незнакомец вроде не похож.
Скорее уж нечто богемное — свободного покроя льняной костюм, мокасины, тонкий трикотажный джемпер — все в мягких пастельных тонах. Загорелый, подтянутый, правда — лысый. Однако ж ему идет. И глаза — красивые, цвета хмурой морской волны, нахальные и добрые одновременно.

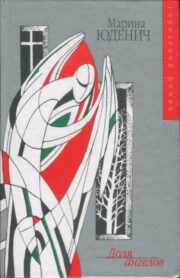
"Доля ангелов" отзывы
Отзывы читателей о книге "Доля ангелов". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Доля ангелов" друзьям в соцсетях.