Последнее, впрочем, напрасно.
Бояться — по сути — было некого еще при жизни Антона, теперь же, когда на его опустевшее место заступила я — тем более.
В тот миг, когда обыденный — не дрогнуло сердце, не перехватило в предчувствии события дыхание — телефонный звонок принес благую весть: мой муж, Антон Васильевич Полонский, мертв, — решение было принято твердо и бесповоротно.
Мое решение.
Войны не будет, и даже слабого сопротивления не последует — белый флаг, безоговорочная капитуляция и далее… как полагается, на милость победителя. Относительно милости, впрочем, были сомнения.
Однако ж решено. Пора приступать.
Офис встречает меня настороженно — именно офис, о людях пока стараюсь не думать, — ощутимой прохладой мраморного вестибюля. Дом, если правы те, кто утверждает, что и дома имеют души, предчувствует предательство. Когда-то я любила его и наезжала часто, был даже кабинет. Само собой, во сто крат скромнее, чем у Антона, но все же… Теперь, надо полгать, в нем обитает кто-то из менеджеров средней руки.
Ближний Тошин круг роскошествует в новых апартаментах. Их оформляла дорогущей итальянской мебелью модная французская дизайнерша, выписанная из Нью-Йорка.
Такой коктейль.
И только картины Антон выбирал сам.
Потому-то, переступив порог кабинета, я первым делом упираюсь взглядом в Малевича.
Огромное полотно на белой шероховатой стене.
Под ним — вытянутый волнообразный рабочий стол размером с маленькое летное поле; зеленоватое муранское стекло в паутине серебристого металла.
Странно и страшно. Хрупкий на вид, к тому же безобразно — по мне — искореженный металл удерживает на весу холодную плоскость массивного стола, заставленную всевозможной техникой, заваленную книгами, альбомами, журналами и газетами.
Красное кресло со стеганой спинкой.
Похоже, ему виделся трон.
Разумеется, на колесиках, иначе взлетную полосу стола не объехать.
Однако ж главный фокус не в этом.
Высокой спинкой кресло-трон развернуто к двери, и, стало быть, входящих Антон встречал именно так, спиной.
— Он хотел постоянно видеть картину.
Ах вот оно что!
Мило.
Особенно если учесть, что покойный ни черта не смыслил в живописи и долго искренне хохотал, впервые увидев репродукцию какого-то из квадратов.
— Миллион долларов? За это?! Я нарисую лучше. И дешевле, клянусь!
Теперь, оказывается, он не мог ни на минуту оторваться от полотна.
Что ж! Люди меняются.
Кстати, о людях…
Заведующую секретариатом зовут Вероника. Впервые мы увиделись на похоронах.
Я удивилась.
Ей далеко за пятьдесят, она не скрывает этого — и даже не пытается.
Приятный голос слегка вибрирует металлом, не слишком естественно, но именно потому сбивает с толку. Мы иногда общались по телефону. Металлический голос был неизменно вежлив, безусловно предан Антону, отменно лгал всем прочим, включая меня, и назывался Вероникой.
Я — в равной степени — допускала присутствие в приемной и Барби, и Наоми.
Вероника оказалась сюрпризом.
Хорошо бы последним.
— Но когда человек входил? — Меня по-прежнему занимает проблема общения с человечеством в присутствии Малевича.
— Если разговор был долгим, он поворачивался.
— И?.. — Я оглядываюсь. В другом конце огромного кабинета, у противоположной стены, маленький красный диван. И крохотный столик подле него.
— Они общались.
— Он за столом, а они…
— Да, это диван для гостей.
— И он никогда не приближался?
— Нет. При мне по крайней мере.
— А друзья? То есть ближний круг?
— Они собирались в овальном зале. Хотите расположиться там?
— Вероятно, да.
— Я распоряжусь.
Распорядитесь, голубушка.
Меня раздражает Малевич на голой стене и стол в серебристой паутине.
Бумаги потерпят, к тому же большая их часть наверняка «времен очаковских…».
Впрочем, это, кажется, о газетах.
Они — тоже. И журналы, и обрывки каких-то записок на пожелтевших клочках бумаги. Дискеты. Визитные карточки.
Интересно было бы взглянуть, как визитеры подносили их к столу, и вообще — приближались ли, чтобы пожать руку хозяину?
И что потом? Пятились задом в лучших имперских традициях?
Жаль, не увижу уже никогда и не узнаю, вероятно.
А барахло со стола — без разбора в камин. Но — позже.
В овальном зале те же шероховатые белые стены — правда, без Малевича. В строгих рамах — кто-то мне неведомый. Но угрюмый.
И снова муранское стекло на серебристой паутине, стеганые кресла с высокими спинками.
Одна, разумеется, выше прочих.
Все правильно. Даже за круглым рыцарским столом монарх оставался монархом. Почти друг и почти равный со славными братьями-рыцарями, но никогда — не ровня.
И странная гамма цветов.
Редкий для Мурано фиолетовый оттенок стекла, фиолетовая кожа тронного кресла, ковер на полу — фиолетовое поле, рассеченное черными контурами геометрически безупречных фигур.
Шторы на окнах — плотная ткань двух цветов — черного и фиолетового.
Все остальное — чернее черного.
Кресла рыцарей. Багеты на стенах. Деревянный матовый потолок.
Уж не принял ли он католичество, мой покойный супруг? Цвета, если память не изменяет, принадлежат Ватикану.
Хорошо бы полюбопытствовать, но Вероника вряд ли знает, а если и знает, не скажет.
И Бог бы с ней.
— Пригласить всех top-менеджеров?
— Нет. Только Юрия Львовича.
— Остальное руководство пусть ждет?
— Нет. Остальное руководство свободно вплоть до отдельного распоряжения.
— А секретариат?
Сто — к одному, она хотела спросить: а я?
И я, пожалуй, отвечу на ее вопрос.
— Секретариат — тоже. Вас попрошу немного задержаться.
Едва заметный всплеск эмоций в глазах, которые до сих пор ничего не выражали.
Он — ненадолго.
Я-то знаю.
— Пока мы с Юрием Львовичем не закончим беседу.
— А потом?
— Потом — также до отдельного распоряжения.
Это — за вранье. В ту пору, когда оно меня еще задевало.
Она давно работала с Антоном, лет семь, примерно.
А может, и больше.
Ну, так это ведь аксиома — всему когда-нибудь приходит конец.
Идея снять квартиру пришла, разумеется, Антону, однако вследствие нелегкого решения моей мамы.
Отец погиб давно, мне было пять лет — я ничего не помнила о нем, не скучала и не считала себя обделенной. Разве только — подсознательно. Потому, наверное, стремительно и намертво прикипела к первому надежному и сильному — на вид — мужчине.
Единственное, что досаждало в ранней юности — причем с каждым годом все больше, — скудость усеченного семейного бюджета. Мама, однако, тянулась изо всех сил — до поры я жила почти счастливо.
Но все кончается — пришли другие времена.
О существовании Антона мама, разумеется, не знала.
Иначе… Но что уж теперь гадать?
Одно ясно: иначе моя судьба наверняка развернулась бы как-то по-другому.
Она не знала и скрепя сердце смирилась с тем, что талантливая, умная девочка волей нелепого случая — а вернее, чьей-то нечестной игры, подтасовок, царящего в стране безобразия — оказалась за бортом московского института. Однако ж — наверняка не сломалась, не утратила веру в себя. Утроив — да что там утроив! — удесятерив силы, вгрызется теперь в гранит науки и уж во второй-то раз непременно займет место на студенческой скамье, заслуженное по праву. Пока — в этом, собственно, состояла суть компромисса — девочке действительно лучше остаться в Москве, обвыкнуть в городе, тем более — зачисляют на подготовительные курсы далеко не всех. Манкировать такой удачей безрассудно.
«Подготовительные курсы» я, разумеется, придумала, солгав и в том, что поступить на них очень сложно.
Она поверила, родительское благословение снизошло на мою грешную голову вместе с восьмьюдесятью рублями ежемесячного пособия, пробившими огромную брешь в скромном мамином бюджете.
Впрочем, совесть моя на ту пору лишилась вдруг и голоса, и слуха, идеально воплотясь в трех знаменитых обезьянок, которые, как известно, ничего и никому…
Я не стыдилась, не страдала и даже не задумывалась о том, что такое эти злосчастные восемьдесят рублей для моей немолодой, не слишком здоровой мамы.
Я ликовала.
Ибо в глазах Антона ежемесячное вспомоществование изрядно прибавляло мне привлекательности.
И — странное дело — сознание этого постыдного обстоятельства нисколько не оскорбляло меня и даже не смущало.
Повторюсь: я ликовала.
В античной трагедии здесь, вероятно, вступил бы хор, бубнящий что-то о Божьей каре, обернувшейся потерей рассудка.
Но как бы там ни было, любимый здраво рассудил, что собственный угол значительно упростит нашу жизнь. Оставшиеся деньги, вкупе с теми случайными заработками, которыми перебивались до сих пор, обеспечат почти беззаботное существование в городе, который пришелся ему по вкусу.
К тому же за широкой Антоновой спиной постоянно маячил призрак армейской удавки, и каждый встречный милиционер был опасен вдвойне.
Съемный угол — чужое, но все же относительно постоянное жилье — в этой связи казался манной небесной. В нем можно было залечь, затаиться, переждать.
Что потом?
Об этом Антон думать не желал и говорить запрещал категорически. Он не терпел неприятных мыслей, гнал от себя людей, избегал ситуаций, которые могли их навеять.

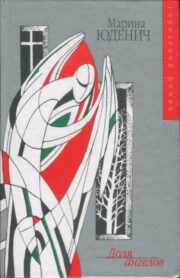
"Доля ангелов" отзывы
Отзывы читателей о книге "Доля ангелов". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Доля ангелов" друзьям в соцсетях.