— Исключается.
— Почему? Ты ведь задумалась, я вижу.
— Задумалась я или нет, кошмарить меня бесполезно. Об этом, собственно, хочу поговорить. Так вот. Решение принято. На мой взгляд, единственно возможное, но даже если это не так — я вряд ли его изменю.
— Что за решение?
— Простое, как истина. Отдать. Всё, всем. Каждый кредитор должен быть удовлетворен если не полностью, то максимально возможно. Для этого — продать все, что осталось, не торгуясь, не дожидаясь лучших времен. Всё! Ты меня понимаешь? Недвижимость, машины, технику, заводы, газеты, пароходы, лицензии, технологии, брэнды. Если понадобится — дом. Тот, в котором сейчас живу. Машину, на которой я езжу. И кстати, они, кредиторы, враги — легион, по твоему определению — должны это знать. А точнее — верить. Я действительно готова отдать все, включая собственные цацки. И тряпки продать с аукциона, чтобы покрыть долги Антона. Не хватит — извиняйте! На панель не пойду. Да если и пойду, много не заработаю. Старовата для этого ремесла. Остальное — в полном их распоряжении. Такое решение. Что скажешь?
— Скажу — молодец. Единственно правильное решение. Единственно.
— Ну слава Богу! Нашелся единомышленник. В таком случае скажи мне вот что…
— Сойдется ли «дебет с кредетом»?
— И если не сойдется, то в каком приблизительно соотношении?
— Сойдется, и даже профит будет положительным. Правда, мизерным. Дом по крайней мере и машину, не говоря уже о цацках и тряпках, можешь оставить в покое. Остальное — займет время. То, которого, кстати, фатально не хватало Антону. Но если ты действительно намерена вот так прямо, как мне сейчас, заявить свою позицию публично и вдобавок принести извинения — полагаю, народ подождет. К тому же твоя личность ни у кого не вызывает остракизма. В этом смысле, отодвигая тебя от дел, Антон Васильевич, сам того не ведая, оказал услугу. Неоценимую. Тебя никто не возненавидел, как его. Скорее — напротив. Давние партнеры, те, которые еще помнят тебя в деле, — сочувствуют. Словом, приятно тебе это или нет, в глазах общественного мнения ты — жертва. И значит, по одну сторону баррикад с теми, кого так или иначе задел Антон. С легионом. Стало быть, пойдут навстречу. Будут ждать. Других проблем не вижу.
Полное, добродушное лицо Птицы излучает уверенность и покой.
Светлые, немного навыкате глаза в обрамлении пушистых белесых ресниц смотрят на меня ласково, с одобрением и прежней братской любовью.
Похоже, он искренне рад тому, что услышал, с души свалился непосильный груз.
И воспарившая Птаха с высоты своего полета действительно не видит более серьезных, неразрешимых проблем, только что застилавших небо.
Глядя на мир его спокойными, чуть насмешливыми глазами — я тоже не вижу ни облачка.
Вокруг — сплошная прозрачная и бесконечная синь.
И даже луч надежды забрезжил на горизонте.
Слабый, но тем не менее различимый.
— Послушай, — говорю я, не слишком, впрочем, обольщаясь. — А копи? Те, африканские… Помнишь?
Секунду он искренне пытается сообразить, о чем речь.
Потом, осознав суть вопроса, смотрит на меня с жалостью. И некоторым даже разочарованием.
Дескать, совсем нормальной показалась старушка поначалу, вменяемой, не лишенной прагматизма.
И вдруг на тебе.
Такое.
Он молчит, но мне не нужны слова.
Так даже лучше, есть шанс реабилитироваться быстро, пока сомнения всерьез не подточили его веру.
В меня.
— Не знаю, почему-то вспомнились вдруг. Вернее, знаю — это ведь был мой последний проект. Вот и выползло то, на чем оборвалась нить. Понимаешь?
— Понимаю… — Птаха вздыхает облегченно.
Я говорила убедительно.
Да, все, очевидно, так и есть.
— Понимаю, — задумчиво повторяет Птаха. — Подумать только: алмазные копи — звучит как название романа. Только вот чьего? Давно не читал ничего такого. Джека Лондона? Или Майн Рида? Не суть. Хотя, возможно, судьбой лицензии следует поинтересоваться. Столько лет прошло…
— Пять без малого.
— Четыре. Там ведь была война, потом вроде все разрешилось. Значит, существует какое-то правительство. Возможно даже, демократическое…
Он готов рассуждать и дальше.
Но для меня уже очевидна тщетность попытки.
И незачем тратить время, развивая пустые мысли.
Совершенно незачем.
Сначала я радовалась квартире как маленькая.
И в точности как маленькие дети «понарошку» пекут пироги из песка, пыталась приукрасить убогое пространство.
Именно «понарошку», ибо реальной возможности изменить здесь что-либо у меня не было.
Прежде всего потому, что не было денег.
Ни копейки в собственном распоряжении.
Все, что присылала мама, немедленно, у окошка кассы на Главпочтамте, исчезало в кармане Антоновых джинсов.
Не говоря уже о том, что иногда умудрялся заработать он сам.
Раз в месяц я получала три рубля «на лекарства» — имелись в виду специфические женские нужды.
Этих денег хватало еще на пару самых дешевых колготок Тушинской — до конца жизни запомню! — трикотажной фабрики.
Прочие редкие обновы — к примеру, французская оправа за пятьдесят целковых, джинсы, башмаки и даже белье — появлялись у меня исключительно по воле Антона, сообразно с его настроением и представлениями о том, что мне следует носить и как выглядеть.
К примеру, залюбовавшись однажды героиней какого-то фильма — телевизора в квартире не было, но в кино мы ходили часто, — Тоша решил, что мне следует преобразиться в ее стиле, и щедро субсидировал поход в парикмахерскую.
Приглянувшаяся актриса была ярко-рыжей и подстрижена «тифозной скобочкой» — состригая пышные пряди пшеничных волос, мы с парикмахершей рыдали в унисон. А перед этим вся парикмахерская отчаянно пыталась удержать меня от очевидной глупости. Я наплела что-то про съемки на «Мосфильме» и непреложное условие изверга-режиссера.
Они поверили.
Впрочем, апельсиновая стрижка, как ни странно, оказалась мне к лицу — в восемнадцать лет, надо полагать, женщине идет многое, если не все.
Тоша остался доволен.
Я обрела дополнительную статью расходов — «на парикмахерскую».
Впрочем, этого никак не могло хватить на благоустройство обветшалой квартиры.
Скрепя сердце я распорола две пестрые ситцевые юбки, еще домашние, сшитые подругой.
Благо в моде тогда было «макси» — юбки до пят. Ткани хватило на то, чтобы изобразить подобие кухонной скатерки и занавески, прикрывшей стекло в кухонной двери.
Стекло, к слову, было треснутым и скоро, разумеется, разлетелось окончательно. «Юбочная» занавеска пришлась как нельзя кстати.
В пыли на антресолях пустой квартиры неожиданно обнаружилась коробка масляной краски — возможно, кто-то из сестринских мужей был художником или, скорее уж, школьным учителем рисования — не суть.
Краска слегка подсохла, но еще вполне годилась для дела.
Ею я рисовала веселые рожицы, цветочки и какие-то невнятные силуэты на грязно-сером кафеле ванной комнаты. В тех местах, где он еще сохранился.
Большие прогалины шершавого бетона — там, где кафель уже отпал, пыталась закрасить той же краской, выбирая цвета поярче.
Убожество никуда не девалось. Но взгляд по крайней мере не так угнетало хмурое однообразие. И несмываемые потеки не бросались в глаза.
Антоша фыркал, однако хозяйственной возни не пресекал — я была счастлива.
Недолго.
Любовь к облупленной квартире кончилась быстро, хотя была настоящей, искренней и, наверное, трогательной любовью к первому совместному жилищу.
Она прошла тотчас, как стало понятно, какой ловушкой обернулась для меня наша первая квартира.
Беспокойная бродячая жизнь имела, оказывается, одно неоспоримое преимущество — мы постоянно были вместе. Точнее, я постоянно была при нем. Как выяснилось, исключительно потому, что деваться было попросту некуда. Вот и таскал за собой, как громоздкий чемодан, который — согласно известной сентенции — выбросить жалко, а носить надоело до чертиков.
Однако ж — носил.
С появлением квартиры все изменилось.
Теперь чемодан был брошен в угол и забыт до поры.
Тоша оставил меня в пустой квартире, изредка забегая, чтобы бросить корм и проверить — жива ли?
Другого — того, к примеру, что могу куда-нибудь деться — Тоша не допускал. И правильно делал — никуда, разумеется, я не делась и деться не могла по определению.
Задним — как принято говорить — умом теперь понимаю: за время наших скитаний изрядно надоела Антону, и, надо полагать, в один далеко не прекрасный день он просто оставил бы меня на очередной лавочке и исчез навек.
Здесь одинаково возможны два варианта.
Я могла умереть сразу. От любви, тоски и предательства. Не суть, что было бы указано в казенном свидетельстве о смерти. Банальный суицид, дорожно-транспортное происшествие, смерть от переохлаждения или острая сердечная недостаточность. Все это в равной степени могло быть правдой и неправдой одновременно, потому что так или иначе я умерла бы именно от любви и предательства, которое невозможно пережить.
В другом — перетерпев, зажила бы иной, неизвестной жизнью. Возможно — счастливой, возможно — нет. Но как бы там ни было, теперь это была бы не я.
Какая-то другая женщина сорока с лишним лет.
Однако ж несчастные мамины восемьдесят рублей!
Бросить их Антон не мог, да и не хотел. Зачем бросать, если можно иметь и пользовать, ничем при этом не поступаясь?
Словом, он милостиво оставил меня при себе, а вернее — при пустой, грязной квартире.
Сам же — заскучав по былой абсолютной свободе — пустился во все тяжкие.

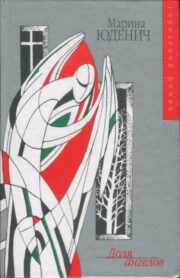
"Доля ангелов" отзывы
Отзывы читателей о книге "Доля ангелов". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Доля ангелов" друзьям в соцсетях.