— Мне нужен телефон.
Медсестра поджимает губы и отрицательно качает головой. Пытается уйти, но я сползаю следом и цепляюсь ей в спину, чуть не падая на слабых ногах.
Снова реву, только на этот раз слезы невыносимо жгут щеку, как будто у меня там настоящий ожег, а не отпечаток пятерни.
— Пожалуйста, мне очень нужен телефон. И… еще интернет.
Я не помню номер телефона Антона, но все мои контакты автоматически сохраняются в гугл-аккаунте.
— Вам нельзя, пока врач не разрешит.
— Пожалуйста. — Я снова падаю, чувствую себя тряпкой и размазней, неспособной рявкнуть и вытребовать любые привилегии. — Пожалуйста, умоляю…
Меня как будто ударили тараном в грудь.
Боль такая сильная, что хочется умереть, лишь бы не чувствовать себя горящей заживо изнутри. Огонь растекается по плечам до подмышек и потом опускается на локти и кончики пальцев.
— Что ж ты плачешь-то так и убиваешься, — причитает медсестра и на этот раз просто помогает мне сесть на край кровати. — Ну, не конец же света. Что там у тебя такое важное?
У меня?
У меня человек, без которого я не знаю, как дышать.
И это очень-очень плохой симптом, но бороться с ним уже бессмысленно.
Через пять минут в палату украдкой заглядывает молоденькая медсестра в белой униформе и шапочке. Ставит около меня ноутбук и протягивает свой телефон.
— Только на пять минут, — смотрит с мольбой. — Я тут всего месяц работаю, если главврач узнает — меня попрут, а где я еще такое место найду?
Мне нужна минута, чтобы зайти в свой аккаунт, открыть контакты и с облегчением выдохнуть — вся моя телефонная книга там и номер моего мужчины в погонах тоже. И даже с красным сердечком в конце его имени.
Но набирать Антона ужасно страшно.
Может, он подумал, что я его обманула?
В запасе пара минут, и я, собравшись с силами, почти наугад тыкаю в кругляшки кнопок на экране.
Двумя руками прикладываю телефон к уху.
Гудок, второй, третий…
До боли жмурюсь, пытаясь убедить себя, что происходящее — всего лишь дурной сон перед рассветом. Белиберда, которая мучает мозг, если очень устал, но никак не можешь заснуть.
— Да? — слышу в трубке знакомый и непривычно сухой официальный голос.
— Антон? — Все, я больше не могу произнести не звука, хоть вырывай гортань.
— Йени?! — Он произносит мое имя громко, удивленно. Мне кажется или действительно с облегчением? — Малыш, что случилось? Я телефон задрочил тебе названивать вчера и сегодня!
Мотаю головой, пытаюсь сбросить неуместное волнение. Он же вот тут, рукой не потрогать, но рядом. Я даже чувствую его запах, который остался утром на подушках. Он говорит со мной, не посылает куда подальше, не набрасывается с упреками.
— Не молчи, — уже напряженно. Слышу грохот ключей на заднем фоне, пару крепких слов, когда что-то с грохотом падает на пол.
Если бы только я могла не молчать.
Беззвучно открываю и закрываю рот как обреченная сдохнуть на солнце рыбина.
— Ты где?
Меня хватает впритык на одно слово — название частного медицинского центра, куда меня определили родители.
— Еду. Не плачь.
Глава тридцать четвертая: Антон
Дерьмо случается.
Эта фраза с идиотского демотиватора торчит в моей башке весь вчерашний вечер, сегодняшнее утро и день.
Я не верю, что люди без причины куда-то пропадают.
Так не бывает.
Разве что они вляпались в крупные долги или засветились в одной из тех бумажек, которые мне порой приходится класть на стол самому высокому начальству. Но Очкарик точно не из тех товарищей, хоть все эти мелкие детали…
В общем, не суть.
Первый раз я набираю ее около шести. Выдается свободная минута и мне просто хочется услышать ее голос и веселую болтовню обо всем и ни о чем.
Она не отвечает.
«Бывает», — мысленно говорю себе и на всякий случай не прячу телефон далеко, абсолютно уверенный, что она перезвонит самое позднее через полчаса.
Но она не перезванивает.
До восьми — ни слуху, ни духу. Я ношусь с жопой в мыле, буквально тупо и нагло стряхиваю с себя важные и неотложные дела, потому что хочу слинять хоть на час пораньше, чтобы забрать Очкарика и заехать в торговый центр за всем, что нужно забросить в холодильник на неделю вперед.
Я снова набираю ее в половине девятого — и снова никакого ответа.
Еще раз — через полчаса. Тишина.
Отправляю пару сообщений: почему молчишь, все ли в порядке, как наши планы?
Сообщения доходят, но она их не читает.
Пробую дозвониться еще несколько раз, хоть чувствую себя тем еще дерьмом. Да что за херня вообще? Что-то случилось — возьми трубку, скажи, я на хрен отстану!
В одиннадцать, когда все коллеги давно расползлись по домам, ухожу с работы. Мелькает шальная мысль заехать к ней, но вовремя вспоминаю, что ей — двадцать шесть, и она — замороченная. Разговор с мамой, видимо, внес необходимое просветление в дебри романтической чуши в голове писательницы. Ну а хули? Девять лет разницы, в клуб не повел, цветы не подарил, сразу напряг готовкой и уборкой.
Сплю я хреново.
Что, блядь, случилось-то?!
Утром еще раз набираю ее номер, и на этот раз «абонент вне зоны действия…»
Дерьмо случается, Антон. Хрен знает, какое в этот раз.
Когда около четырех я вижу на экране незнакомый номер, первая мысль в голове — это Очкарик. Судя по тому, что мне так и не пришло уведомление, что она мелькнула в сети, ее телефон до сих пор выключен. Потеряла? Украли?
Что случилось что-то серьезное, я понимаю еще до того, как она заканчивает проговаривать мое имя. Голос у нее на надрыве, как будто ревет и прячет слезы в подушку. Когда не отвечает на элементарный вопрос, но часто-часто всхлипывает, понимаю, что вот так, по телефону, дела не будет.
И даже не удивляюсь, что она не дома и не у родителей, а в медицинском центре.
Я не пытаюсь подготовиться к встрече. Без причины люди не оказываются в больнице полностью отрезанные от внешнего мира.
Но все равно, когда медсестра проводит меня в палату и снова говорит, что у пациентки сотрясение мозга и она сидит на транквилизаторах, я оказываюсь не готов к увиденному.
Очкарик сидит на кровати, буквально, как огромная запятая цвета кофе. Не в одном из тех прикольных комбинезонов, в которых мягкая, смешная и домашняя, а в одежде, которая ей ни хрена не идет. Держит себя за колени и тихонько, как те ненормальные в фильмах про психов, шатается право-влево, изображая маятник.
Волосы завязаны в лохматый пучок на макушке, на тыльной стороне правой ладони длинная свежая царапина.
А когда поднимает голову на звук, я мысленно громко матерюсь.
У нее же эта вечная болезненная бледность, так что красный отпечаток на щеке горит, как будто ожог. И искусанные в кровь губы, которые малышка уже знакомым мне жестом прикрывает ладонью с двумя пластырями на костяшках пальцев.
Но «убивает» не это.
«Убивают» ее опухшие заплаканные глаза.
Блядь, да что случилось-то?! Целая трагедия из-за удара головой? Она что — решила повесить шторы и кубарем скатилась со стремянки?
Несколько секунд мы просто смотрим друг на друга, а потом Очкарика начинает трястись.
И я, здоровый циничный мудак, даже не очень понимаю, как оказываюсь рядом, как она вдруг оказывается на мне: обнимает за шею и тихонько отчаянно скулит в воротник свитера.
Я не умею утешать, не умею вытирать слезы и находить правильные слова. Я умею решать проблемы, а не разводить сопли и корчить жилетку.
Но на голых инстинктах обнимаю свою писательницу, потому что с ней творится какой-то полный пиздец.
— Не уходи, пожалуйста! — Это так громко и отчаянно, как будто я вдруг встал, сказал херню в духе «Был рад тебя повидать» и сваливаю. — Я… дышать не могу. Без тебя.
В моей жизни были женщины, которые говорили всякую романтическую хрень: что любят меня, хотят от меня детей, хотят засыпать со мной рядом. Да много всего, что я, по причине природной толстокожести, всегда пропускал мимо ушей. Вот так если подумать — а любил ли я кого-то, чтобы какая-то романтическая хрень цепанула за самое нутро?
Нет.
Но то, что говорит Очкарик — это нифига не романтическая чушь счастливой женщины. В основном из-за того, как она это говорит, как у нее зуб на зуб не попадает от страха, как она изо всех сил скребет ногтями по моему свитеру.
С ней точно много заморочек, и пока я глажу ее по волосам, в собственной голове малодушно зреет мысль: на хрен мне все это надо? Легко не будет — это я понял и принял еще когда предложил ей перебраться с вещами. Но тогда я не видел ее вот такой — маленькой, сломанной и зависимой от человека, на которого я бы и сам не всегда согласился положиться. Не потому, что могу обмануть и предать — хотя, конечно, могу и делаю, но это все плоскость работы и с личным не пересекается — а потому что она, скорее всего, смотрит на меня через розовые очки. И не видит, какой я в сущности черствый хер.
— Прости, что я это сказала, — всхлипывая, извиняется Йени и пытается освободиться. Видимо, пауза моего молчания уже разродилась в ее чудной голове новым выводком тараканов. — Я… на таких лекарствах, что не очень понимаю, что несу. Не думай… В общем, ничего такого, я почти адекватна.
Снова она защищается, снова лезет в свою раковину, закрывается у меня на глазах. Только что была перепуганная, до чертиков странная, но живая и настоящая, и вот — снова какие-то натужные реакции, попытка выдать себя за правильную и безопасную. Она слишком умная, чтобы не понимать, как на самом деле пугающе прозвучало ее признание.

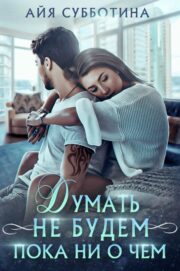
"Думать не будем пока ни о чем" отзывы
Отзывы читателей о книге "Думать не будем пока ни о чем". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Думать не будем пока ни о чем" друзьям в соцсетях.