А потом я рассказал им про один давний вечер, когда мы обсуждали «Итана Фрома» и, пустив по кругу две тарелки с тыквенным пирогом, который жена его нарезала крупными ломтями и щедро сдобрила взбитыми сливками, Уле Брит в конце концов заговорил об Эдит Уортон, авторе этой книги; он отметил, что писать роман она начала не по-английски, а по-французски. «Кто-нибудь знает почему?» — осведомился он. Никто не знал. Потому что хотела выучить французский, объяснил он. Она тогда жила в Париже, наняла молодого учителя. На страницах остались его пометки. Представьте, говорил Уле, она пишет изысканный роман в духе Франции семнадцатого века, населенный грубыми неотесанными типами, которые жуют табак, пребывают в вечном страхе перед своими женами и регулярно сбегают в ближайший кабачок, чтобы утопить терзания в виски с вяленой говядиной.
— Сюжет я забыл, — признался я, однако мне запомнились снег и трепетная любовь Итана и Мэтти, как они нервно сидят за кухонным столом и удерживаются от того, чтобы взяться за руки. Особенно мне запомнилась золотая тарелка.
— Ты имеешь в виду блюдо, — поправил ее муж. Я поблагодарил его.
— Эдит Уортон, — продолжал я, — большую часть жизни прожила в Новой Англии, а потом совершенно неожиданно, из-за романа с человеком, который не был ее мужем, в возрасте сорока шести лет записала в дневнике следующее: «Наконец-то я выпила вина жизни». Уле Бриту очень нравились эти слова. «Вдумайтесь, какое нужно мужество, чтобы сказать себе такое в возрасте, когда большинство людей давно уже выпили вина жизни и даже успели протрезветь. И вдумайтесь в то, какое отчаяние звучит в этом "наконец-то", — как будто она уже отчаялась и страшно благодарна этому человеку, явившемуся в ее жизнь в самый последний момент». А потом, поразмыслив над собственными словами, Уле Брит спросил, кому из нас уже довелось выпить вина жизни. Почти все студенты подняли руки, твердо убежденные, что уже познали это несказанное блаженство. Не сделали этого только двое.
— Мы с тобой, — произнесла она после минутного молчания, как будто бы этим все было сказано, сказано уже тогда.
Повисло молчание.
— Если точно, в тот вечер еще один человек не поднял руки, — добавил я наконец.
— Я третьей руки не помню.
— Это был сам Уле Брит. Счастливый супруг и отец, уважаемый педагог, ученый, писатель, состоятельный человек, объездивший весь мир, — и вот он тоже не поднял руки, однако постарался, чтобы мы этого не заметили, делал вид, что набивает трубку, чтобы было не так очевидно, что его руки нет среди общего числа. Меня это поразило. Я вдруг заподозрил, что он живет неправильной, не своей жизнью. Я распознал в нем человека, на которого давит неподъемная, бесконечная череда сожалений. Все почести мира — но только не вино. Мне его стало жаль. Он, видимо, — мы это вычислили из цитаты, которую он позаимствовал у Лоренса Даррелла, — «получил эротическую травму». Нам эта фраза страшно понравилась, потому что значила все и ничего. Не могу в четверг, у меня эротическая травма. Маргарет наконец-то поняла, что у нее эротическая травма. Отчет членов комитета нанес ему эротическую травму. Я не сдал реферат вовремя по причине эротической травмы.
Однажды вечером в доме погасли огни. В бурную погоду это случалось часто, свет отключали по всему нашему университетскому городку. Было жутковато и при этом на диво уютно. Мы теснее придвинулись друг к другу, стали ближе. Уле же продолжал говорить и в темноте; некоторые, как всегда, сидели на ковре, другие на двух диванах, он, с трубкой, в своем кресле. Нам нравилось, как звучит в темноте его голос. Вскоре после того вошла его жена со старой керосиновой лампой. «Поискала, но свечей у нас нет», — извинилась она. Он, как всегда, очень учтиво ее поблагодарил. В итоге одна из девушек не сдержалась. «У вас просто идеальная жизнь, — сказала она. — Идеальный дом, идеальная жена, идеальная семья, идеальная работа, идеальные дети». Не знаю почему, но он возразил ей, не колеблясь: «Учитесь видеть то, что увидеть непросто, может, тогда и станете человеком». Эти слова я запомнил на всю жизнь.
Через три года я вернулся в наш городок и дней десять прожил у него дома. Я уже не был студентом, но легко вернулся к прежнему, сидел на вечерних семинарах с дюжиной новых «апостолов», листал те же книги, а потом, когда все уходили, помогал ему очистить и составить в посудомоечную машину тарелки. В один из этих дней, когда мы вместе протирали бокалы, он признался, что настоящее его имя — не Рольт Уилкинсон, а Рауль Рубинштейн. Да, он выпускник Оксфорда, но даже не британец по рождению. Родился в Черновцах, а вырос, вообразите себе, в Перу.
— Он еще жив? — поинтересовался муж, вклинившись в мою краткую идиллию.
— Жив, — подтвердил я. — Странно, что в тот вечер — а речь, как и три года назад, с нами, шла про «Итана Фрома» — он снова заговорил про вино жизни. На сей раз не поднялось только две руки. И тут я понял, просто понял — и все. А он, бросив на меня быстрый взгляд, понял, что я понял. Мы свели это вино жизни к шутке, когда сели пить вино после семинара. «Его не существует», — произнес он в конце концов. «Я в этом не уверен», — ответил я, стараясь не возражать в открытую. «Вы еще молоды. Именно по причине вашей молодости вы, возможно, и правы». Мне пришло в голову, что он, переваливший за пятьдесят, на самом деле меня моложе.
Никто ничего не сказал; возможно, я утомил их этим долгим монологом о студенческих днях. Повисло молчание, а перед моими глазами встал тот зимний вечер, когда я вышел из дома Уле Брита один и вспомнил, как мы с Хлоей, бывало, вдвоем пересекали университетский дворик и пересчитывали девять фонарей, в шутку давая каждому имя одной из девяти муз: на это у нас была мнемоническая фраза ТУМ ПЭККЕТ. Талия, Урания, Мельпомена, Полигимния, Эрато, Клио, Каллиопа, Евтерпа, Терпсихора. Его курсы того года определили нашу будущую жизнь, как будто тускло освещенная гостиная в большом доме, куда от университета вел некрутой подъем, оказалась тем местом, где настоящий мир замыкается на ключ, а вместо него открывается совсем другой. Мне внезапно показалось, что все подлинное осталось в прошлом, и я затосковал по тем временам.
Вспомнился еще один вечер, когда я застал Уле на крыльце: он смотрел на пустующий университетский дворик. Только что выпал снег, и вокруг воцарились несказанный покой и безвременье. Я сказал, чтобы он не тревожился, — утром я разгребу сугробы.
«Не в этом дело», — ответил он. Я знал, что не в этом. Он положил руку мне на плечо, чего никогда раньше не делал, — он был не из любителей прикосновений. «Смотрю я на это и думаю, что когда-нибудь все это будет происходить уже без меня, и я знаю, что стану тосковать, пусть даже остановившееся сердце и не ведает тоски. Я даже сейчас испытываю эту грядущую тоску, как тоскуешь по тем местам, куда не попал, по поступкам, которых не совершил». — «А каких поступков вы не совершили?» — «Вы молоды и очень красивы — как вам это понять?» Он отнял руку. Он жил в будущем, жить в котором ему не придется, и тянулся к прошлому, которое ему тоже не принадлежало. Назад не вернешься, вперед путь заказан. Я испытал сочувствие.
Может, прошлое — это другая страна, а может, и нет. Оно может представать изменчивым или неподвижным, но столица у него всегда одна — Сожаление, и протекает через нее канал несбывшихся желаний, по которому рассыпан архипелаг крошечных «могло бы быть», тех, что так и не претворились, но оттого не утратили реальности и, возможно, еще претворятся, хотя мы и страшимся обратного. И я подумал, что Уле Брит скрывает нечто очень важное, как это свойственно нам всем, если мы оглядываемся вспять и понимаем, что все дороги — которые мы оставили за спиной и по которым не пошли — почти исчезли. Одно лишь Сожаление хранит в себе надежду вернуться к подлинной жизни, если хватит на то силы воли, слепого упорства и смелости, променять жизнь, которая тебе досталась, на жизнь, помеченную твоим именем и принадлежащую тебе одному. Именно с Сожалением смотрим мы в будущее, на то, что давно утратили, чем, по сути, не обладали. Сожаление — это надежда, лишенная уверенности, сказал я вслух. Мы разрываемся между сожалениями — ценой за несодеянное — и угрызениями совести, платой за совершённое. А в промежутке между ними время и показывает все свои славные фокусы.
— У греков не было бога сожаления, — безапелляционно заявил муж, то ли чтобы побахвалиться, то ли с целью увести в сторону разговор, который явно уже касался не только Уле Брита.
— Греки же гении. У них было одно слово для сожалений и угрызений совести. Как и у Макиавелли.
— Я о том и говорю.
Я так и не понял, о чем именно он говорит, но ему явно нравилось оставлять за собой последнее слово.
Выйдя из ресторана, мы с ней оказались впереди, муж с Манфредом шли следом. «Но ты счастлива?» — спросил я. Она передернула плечами — то ли имея в виду, что вопрос дурацкий, то ли показывая, что вообще не понимает смысла этого слова, ей все равно, не будем об этом. Счастье — qu'est-се que c'est[12]? Ну а ты, однако? — спросила она. Это вырвавшееся «однако» сказало мне, что от меня она ждет совсем других утверждений. Но я тоже передернул плечами — возможно, повторяя ее жест, чтобы на этом и закончить. «Счастье — это другая страна». Так я подшучивал над ее благоверным — и было видно, что ей это не против шерсти. «С Манфредом все строится на бережном отношении друг к другу, ни одного неудобного слова, но что до сути...» Я покачал головой, имея в виду: об этом лучше не стоит. «Можно я тебе позвоню?» — спросила она. Я посмотрел на нее. «Да». Но даже я услышал нотку усталости, смирения, безысходности в наших словах, и в вопросе, и в ответе. Я пожалел о них, едва они прозвучали, и попробовал вернуть в разговор бодрость застольной беседы. Возможно, я пытался подражать тону тех, у кого сердца полны апатии, но они прикидываются, что не хотят этого показывать. А может, я пытался показать, как мне хочется, чтобы она позвонила. Я ощутил холод и понял, что дрожу. Хотя не в холоде было дело.

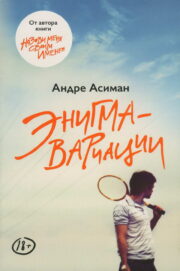
"Энигма-вариации" отзывы
Отзывы читателей о книге "Энигма-вариации". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Энигма-вариации" друзьям в соцсетях.