— Каких работ, Рита? У меня же ничего нет!
— Вот-вот. Поэтому тебе надо хорошенько поработать. Немедленно вернуться домой и взяться за работу. Это твой единственный шанс чего-то добиться в жизни. Хватит бить баклуши…
Пытаясь уловить хитринку в ее больших светлых глазах, я пролепетала:
— Я не могу вернуться домой… Здесь же Пол! Ты сама сказала.
— Ну и что тебе этот Пол? — она ткнула меня пальцем в плечо.
Я потерла это место, и тетка тут же усмирила свой гнев.
— Много он тебе дал, этот Пол? Ребенка зачал? Это, знаешь ли, дело нехитрое… Чем он помог тебе, когда ты искала себя?
— Откуда ты знаешь, что я искала себя?
У нее вырвался нервный смешок:
— Ты еще не поняла? Я все знаю.
— Как Режиссер? — я попыталась найти его взглядом, но нигде не было видно ни малейшего движения. Даже высокая сухая трава замерла, прислушиваясь к нашему разговору.
— Может быть, — неопределенно ответила Рита.
— Ты из его племени веселых безбожников?
— А ты сама? Твоя душа не принадлежит Богу.
Правда ее слов резанула меня. Пол тоже что-то говорил о душах, которыми может завладеть сатана…
Собравшись с мыслями, я сказала:
— Если это, как ты говоришь, деловое предложение, то от меня тоже что-то требуется?
— Пойти со мной, — подтвердила она. — Только и всего. Я дам тебе славу и деньги.
— А я — страсть, которой ты искала, — раздался голос Режиссера.
Он опять возник из воздуха и смотрел на меня, многообещающе улыбаясь. Из-за его плеча блеснули Ланины глаза. Она произнесла так ласково, будто мы с ней и не ссорились:
— А я уберегу от одиночества. И стану твоей верной слугой.
— И это все только ради того, чтобы я ушла отсюда? Значит Пол и вправду здесь… Пустите меня!
Оттолкнув меня, Режиссер пронзительно крикнул:
— Любовь к другому существу противоестественна. Адам и Ева не любили друг друга, они просто мирно сосуществовали в одном саду. Если б Богу было угодно сделать их единым существом, он вообще не стал бы удалять то ребро из тела Адама. Оно жило бы в нем и было бы его плотью и кровью. Вот это единение! Но двум раздельным существам это не под силу. Все это сказки, что влюбленные сливаются в одно целое. Это иллюзия, ничуть не более реальная, чем мираж в пустыне. Даже если также хочется в него верить.
Пытаясь сохранить хладнокровие, хотя меня всю так и трясло, я сказала:
— Ты говоришь о существах, Режиссер. Я не знаю, может, ты и есть существо. Но мы с Полом — люди. И у нас все по-другому. Тебе просто не понять.
Выслушав, Режиссер невозмутимо сообщил:
— Он умрет сегодня.
— Нет, не умрет, — уверенно возразила я. — Ты уже пугал меня его смертью, а он выжил.
— Это я спасла его, — Ритин голос прозвучал низко и хрипловато. — Для себя…
— Но он тебе не достался!
— И тебе не достанется, — заверил Режиссер. — Не мешай ему. Смотри, как хорошо он спит…
Он повел рукой, и кусты боярышника с шорохом расступились. Открывшаяся поляна зеленела так неистово, будто мы вернулись из осени в начало лета. Пол спал на траве, вольготно раскинув руки, и мне было видно, как лицо его разрумянилось от лесного воздуха.
— Он жив! — обрадовалась я.
— Пока жив, — согласился Режиссер. — Но смерть уже подкрадывается. Подползает… Можешь не озираться, она вовсе не в капюшоне и с косой. Это примитивное представление. Смерть многолика, как истинный художник. Она может придумать любой образ и вжиться в него. Сейчас ей вздумалось стать крошечной букашкой. Бартон о таких и не слышал! В Британии не водятся энцефалитные клещи…
— Нет! — я рванулась к поляне, но Режиссер цепко схватил меня.
— Думаешь, мы втроем не справимся с одной беременной женщиной? — сочувственно спросила Ланя.
Больно сдавив мои локти, Режиссер продолжил:
— Его неспроста так тянуло в Россию. Это смерть звала…
— Пожалуйста, — умоляюще прошептала я своим маленьким отражениям в линзах его очков.
— Что — пожалуйста?
— Не дай ему умереть…
— Ты не того просишь, — усмехнулся он. — Не я распоряжаюсь жизнями людей.
— Но это ты подослал к нему смерть!
Рита со злостью отрезала, дернув крупной, хорошо слепленной головой:
— Пол сам ее нашел! Кто просил его возвращаться сюда?
— Он думал, что ему все известно о России, — подхватил Режиссер. — А вот не знал наш великолепный Пол Бартон, что в это время в Сибири — сезон клещей. Он так торопился к этому дню! Он все подгадал…
— Какой день… — тихо сказала Ланя. — Два рождения и одна смерть.
— Смерти не будет, — твердо ответила я и засмеялась.
Они с тревогой переглянулись. Их глазам оказалось недоступно то, что видела я, потому что их восприятие не было обострено любовью. Я же слышала дыхание Пола, улавливала его запах и различала в воздухе абрис белоголового ангела, что неслышно опустился возле него.
Глава 32
"Дорогой Пол!
Как безлико это ваше излюбленное английское обращение! Что за пустое слово — дорогой… Я начну по-другому:
Любимый! Мой любимый!
Слышишь ли ты меня? Я пишу тебе, Пол, впервые в жизни. Пишу из того дня, в котором тебя уже нет. Я стала той самой старушкой, которую ты обещал любить. Ты не сдержал своего слова, Пол. Мы так долго шли вместе, а потом ты вдруг споткнулся и упал в расщелину глубиной в четверть века. И я осталась одна…
Чего я не сделала, Пол, чтобы ты прожил еще один год? Еще пару лет… Может, тебе нельзя было есть бекон и так много яиц, но ты любил это, а я ни в чем не могла тебе отказать. Знаешь, Пол, я с радостью умерла бы вместе с тобой, если б ты попросил. Но ты просил о другом: "Береги себя, девочка! Наш сын такой оболтус, за ним нужен глаз да глаз. И следи, чтоб он даже не приближался ни к одной киностудии…"
Я все выполнила, Пол. Но это оказалось несложно. Ты и сам убедился в том, что Марк вообще не любит кино. Помнишь, как мы выбирали ему имя? Такое, чтобы присутствовало в обоих языках. И он звал нас, прячась среди роз: "Мама! Daddy!" Как ты и мечтал…
Помнишь, как мы рожали нашего сына? Вместе, по-другому и не скажешь. Ты ворвался в родильный зал во время очередной схватки, на тебе была смешная белая шапочка и халат. Я решила, что умерла, душа моя пролетает над Британией, и сверху ты ей видишься таким странным. А потом ты стоял на коленях и сжимал мою руку или, вернее, я — твою, а ты что-то лепетал, мешая русские и английские слова. Я еще ничего не понимала: откуда ты взялся и не исчезнешь ли, когда все закончится. Но ты не исчез. Ты был таким же красным и мокрым, как наш ребенок, и, наверное, как я сама. И тогда до меня дошло, что это на самом деле — ты.
Где ты, мой Пол? Может, у англичан свое особое место в раю, где, как у Кэрролла, всегда время чаепития и никто не выходит из-за стола? Пустят ли меня туда? Не знаю. Но мое письмо найдет тебя и там, хоть это и кажется немыслимым. Только ведь все, случившееся с нами, — немыслимо, и кому-то наша история покажется сказкой или болезненной фантазией. Ты научил меня понимать, что это в порядке вещей. Людям всегда кажется неправдоподобным то, чего с ними не случалось. Не могло случиться. Потому что они — другие. У них свои истории.
Меня очень мало осталось на этой земле, Пол. Почти всю меня ты забрал с собой. Я превращаюсь в ссохшееся, скрюченное существо, но старость тут ни при чем. Твое большое, жизнелюбивое тело она не иссушила, ведь мы были вместе и подпитывались друг от друга. А теперь я осталась одна. Если б это произошло, когда мне было тридцать, я все равно стала бы таким вот сморчком.
Я все-таки выучила твой неподатливый язык, но не потому, что глупо жить в Лондоне и не уметь сказать хотя бы пары фраз. Уж это я перенесла бы… Но мне так хотелось говорить с тобой! И понимать все, что ты скажешь. А ты учил русский, и, конечно, твои успехи намного превосходили мои. Чаще всего мы разговаривали на смеси двух языков, изобретая свой собственный, и наконец рассказали друг другу все о Режиссере. Он больше не возникал в нашей жизни, но все же меня не оставляло ощущение, что Режиссер постоянно где-то рядом. И это заставляло меня дорожить каждым мигом. После твоей смерти это ощущение исчезло. Наверное, он ушел вместе с тобой, Пол. Ведь он не мог без тебя жить.
Я думала, что тоже не смогу, но вот как-то живу и даже почти не плачу. Только когда вспоминаю ту историю тридцатилетней давности…
Я понимаю, почему ты испытывал меня, Пол. Ты так хотел, чтобы я любила в тебе лишь то, чего ты сумел достичь. И так боялся, что все порочное, с чем ты родился и столько лет боролся, окажется для меня притягательнее. А это значило бы, что все твои титанические усилия пошли насмарку, и то, к чему ты пришел, не имеет в моих глазах ни малейшей ценности. Ты доверия мне роль судьи собственной жизни, и я, не столько разумом, сколько по наитию, оценила ее. Я родила от тебя ребенка. Именно от тебя, Пол, а не от Режиссера. Большего доверия я не могла тебе оказать.
Но знаешь, Пол, я до сих пор благодарна Режиссеру за то, что он, пусть грубо, но вынудил нас обоих открыть глаза на самое страшное в жизни — возможность потерять друг друга. Кто знает, как сложилось бы все, не окажись он рядом…
Мне так жаль, Пол, что мы с тобой оказались не столь благочестивы, как Филемон и Бавкида, и Небеса не даровали нам возможности умереть в один день, превратившись в деревья, которые мы оба так любили. Я зачем-то осталась на этой земле и каждое утро встречаю теперь удивлением: "Что я до сих пор делаю тут без тебя?!"
Помнишь день, когда твое сердце вдруг остановилось? За несколько минут до этого мы сидели с тобой в Гринвич-парке, на одной из укромных скамеек, и, как робкие школьники, гладили лица друг друга. Видит Бог, за всю жизнь я не испытывала ничего лучше, хотя в ней было много страсти и неистовства. Тебе нравилось бывать в этом месте — близость Гринвичского меридиана волновала тебя. Мне до сих пор кажется, что это произошло с тобой, как раз на этой невидимой линии… Мы пошли через парк к Темзе, и я чуть приотстала, поправляя юбку. Ты обернулся — высокий, все еще крепкий, совсем седой, — губы твои вдруг побледнели и раскрылись. Ты упал передо мной на колени и через секунду затих на земле. Даже уходя, ты успел поразить меня и высказать свою любовь. Ты — невероятный мужчина, Пол. Просто невероятный…

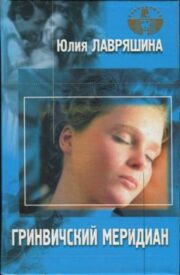
"Гринвичский меридиан" отзывы
Отзывы читателей о книге "Гринвичский меридиан". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Гринвичский меридиан" друзьям в соцсетях.