И когда появилась Сара, он понял, что любить ему будет мешать вечная подозрительность, отсвет взаимовыгодной сделки.
Он оттащил ее к дереву, сам привалился к нему, а Сару обхватил руками. Тело его болело в сотне мест. Нужно было что-то делать с пальцем, но это значило бы оставить Сару, а к этому он был пока не готов. Он слишком долго зарабатывал право подержать ее в руках.
Он гладил ее волосы и пытался не представлять себе будущее без нее. Он уже пережил это несколько минут назад и не хотел возвращения той оглушительной пустоты. Горе было столь же всепоглощающим, как страсть, которую он испытывал к ней по ночам. Он захотел поцеловать ее и рассказать, что никогда еще не испытывал к женщине ничего подобного. Но какой прок в словах? У него возникло искушение дать ей то, чего она хочет от него, хотя к любви это имеет мало отношения. Он покажет ей, что такое жгучая плотская страсть, – и ничего больше. Пусть испытает полное опустошение, которое остается после того, как похоть удовлетворена. Пусть она вперится невидящим взглядом в ночную тьму и попробует проглотить горький комок одиночества и разочарования – ведь именно это ждет ее, когда она станет жить с Норманом. Он осторожно уложил ее на листву и приблизился к реке. В воде он постарался разглядеть свое отражение – разбитый нос, спутанные, обвисшие вокруг лица волосы. Потом он оглянулся на спящую Сару. «Ну где же этот чертов Генри? – простонал он. – Почему его до сих пор нет? Кто спасет меня от себя самого?» – добавил он про себя.
Прошло три дня, а они по-прежнему были одни. Одиночество усугублялось тем, что они, находясь рядом, имели между собой так мало общего. Морган переменился. Замкнутый, угрюмый, беспокойный – он совершенно отстранился от Сары. Он мерил шагами берег. Он проклинал джунгли, взывал к Генри, который – он был уверен – утонул в реке, а иначе бы он их давно нашел. Однажды, когда Сара пожаловалась на голод, он перевел на нее свой обезумевший взгляд и крикнул: «Сама ищи пищу! Кто я для тебя? – Всего лишь слуга-неудачник!»
Морган пугал Сару. Она часто ощущала на себе его горящие, жадные взгляды. Однажды он перехватил ее взгляд и тут же отвернулся, усевшись на берегу спиной к ней и пристроив больную руку на коленях, точно грудного младенца. Может быть, боль превратила его в ожесточенного и совершенно чужого человека? Ведь и в самом деле, страдание его, должно быть, непереносимо.
Она была свидетельницей, как он прилаживал сломанную кость, обливаясь потом и мочаля зубами обломок ветки. Как только он поставил кость на место, ноги у него подломились, и он покатился по земле, и в горле у него клокотало. А она плакала, потому что ей так хотелось хоть чем-то ему помочь.
Но он прогнал ее, неузнаваемым от боли голосом: «катись к черту!»
У него начались кошмары по ночам, и часто ее некрепкий сон прерывался его нечленораздельными выкриками. Он сам просыпался от них и, шатаясь, брел к реке, чтобы опустить лицо в воду, тогда его переставало колотить.
Раз или два он сорвал с себя рубаху, и взгляд ее приковывали шрамы у него на спине, некоторые очень глубокие, а некоторые – слабо различимые белые отметины. Это зрелище испугало ее не меньше резкой перемены его настроения. Она вдруг поняла, насколько плохо она его знает, и ей стало его жалко. Боже милостивый, кто же его так страшно высек? За что? От мысли о том, какую боль ему пришлось испытать, она заплакала.
Ночи без костра казались бесконечными. Ей так не хватало Моргана, хотелось прижаться к нему – и несколько раз он шел ей навстречу, но лишь для того, чтобы уже через час оттолкнуть ее и сидеть одному в темноте.
В отчаянии она как-то закричала:
– Что я сделала? Чем я тебя разозлила?
– Заткнись.
– Я хочу понять. Ты… ты изменился, Морган.
– Я хочу курить. И выпить, – донеслось из темноты. – Оставь меня в покое, не то худо будет.
Так она и поступила, и ждала бесконечные часы, когда же, наконец, призраком среди деревьев замаячит рассвет. Хотелось есть. Они голодали уже два дня, она сердито подошла к Моргану.
– Дай мне нож, – потребовала она. Он издал уродливый смешок.
– И ты вонзишь его мне в спину?
– Мысль заманчивая, но я хочу пока лишь срезать каких-нибудь плодов.
– Ну-ну, посмотрим, как у тебя получится. – Он воткнул нож у ее ног. – Удачи, – добавил он.
Она хмуро взяла оружие и направилась к лесу, неуверенно посматривая на деревья. Она заставляла себя, несмотря на ушибы и порезы, приблизиться к флоресте, но, даже не углубившись в переплетение лиан и корней, поняла, что не знает, где искать что-либо съедобное. Но голод был непереносим; она впервые поняла, что значит умирать от голода. Это значит, что пусто становится не только в желудке, но во всем теле. Голод пылает в крови, гудит в голове.
– Сара! – окликнул ее Морган.
Она рубила побеги, находя удовольствие в кромсании их на куски. Она слепо брела по подлеску, позабыв даже о голоде, такое ее охватило огорчение. Она вышла к изгибу реки, и там – прямо над водой – увидела плод папайи, такой крупный и спелый, что ветка под ним прогнулась. Папайя призывно покачивалась, и солнце, отражаясь в воде, окрашивало ее в розовые тона.
У Сары потекли слюни, и, бросив нож, она вошла в воду, ощущая, как тепло растекается по ногам. Вода всколыхнулась вокруг ее ног, когда она потянулась за плодом и сжала пальцы на нежной мякоти, которая от этого смялась и засочилась по ладони. Она сорвала папайю со стебелька и, услышав, как из леса позади нее выходит Морган, обернулась к нему, со смехом поднимая в руке деликатес.
– Морган, смотри, что у меня. Мой дар для царского стола… Морган?
Расширенными от ужаса глазами он смотрел на нее. Сара застыла, а окружавший ее мир рассыпался, как стайка стремительно разлетающихся птичек, от клекота которых зазвенело в ушах. Вода всколыхнулась и обдала ее выше талии, и она, подняв взгляд, смотрела в оцепенении, как коричнево-черная и зеленая мозаика соединяется на поверхности воды в чудовище, подобно дракону поднимающееся из мутных глубин. И она ничего не видела – только гипнотический взгляд, который все приближался. Она почувствовала, как ее что-то схватило, обвило и стало сжиматься все плотнее…
Она закричала, смутно сознавая, что Морган рвется к ней по воде. Лицо его застыло от ярости, когда он сжал руки на могучей голове удава… Он затолкал эту голову под воду, а удав поволок ее за собой, беспомощную, как морганова мармозетка…
Еще через мгновение она поняла, что освобождена, и кое-как выбралась на берег. Рот ее был залеплен илом, но она испустила крик, когда увидела, что вода бурлит от смертельщеки. Глаза казались огромными о очень зелеными в свете костра. Он решил, что она все еще не оправилась от пережитого.
– Мы зашли слишком далеко, чтобы отступать теперь, – ответил он Генри. И склонившись к самому его уху, шепотом спросил:
– А это, случаем, не человечье мясо? Генри зашелся в хохоте.
– Да какая тебе разница? Я смотрю, Морган, не больно ты и голоден.
– Не настолько, чтобы съесть чью-нибудь бабушку.
– Ачуара не людоеды. Ешь, а то обидятся.
Вождь улыбнулся и кивнул, приглашая его отведать пищу. С некоторой неохотой Морган потянулся за чашей, но она испарилась из-под его покалеченной руки, подхваченная юной девушкой; груди у нее были круглые и упругие, как кокосовая скорлупа, темные соски выступали. Глаза были большие и темные, как ночь, волосы, как тушь, – струились по плечам.
– Ты ей нравишься, – шепнул Генри. – Вождь поднесет ее тебе в дар сегодня ночью.
Она наградила его ослепительной улыбкой и поставила чашу ему на колени. Он мысленно подсчитал, сколько же времени не имел женщину. Потом взгляд его вернулся к Саре, и он понял, что сама эта мысль непристойна, как богохульство в храме.
Кан подал Саре чашку и объявил, что это блюдо называется «пато но тусупи». Она поморщила нос, видимо, оставшись недовольна видом или запахом. Как это на нее похоже – воротить нос, умирая от голода.
Кан пояснил:
– Там утка и зелень.
– Только утка и зелень? А что ж так мерзко пахнет? – Она отодвинула чашку, хотя и продолжала жадно на нее смотреть.
Чувствуя, что она не притронется к еде, пока он не станет есть, Морган поднес свою чашку ко рту и, пользуясь руками вместо ложки, положил немного варева себе на язык, и оказалось, что не так уж оно и плохо. Только тогда отважилась попробовать и Сара.
– Есть легенда, – начал Генри, – касающаяся «тусупи». Согласно этой легенде, прекрасная дочь индейского вождя обратилась после смерти в нежнейшую белую мякоть корня маниоки, из которого берут сок, в котором варят утку и овощи…
Морган нахмурился и проглотил. Рот у него онемел; мускулы лица будто заморозили; он слова не мог сказать, губы не слушались, изо рта потекла слюна, как у дебила. Одного взгляда в сторону Сары было достаточно, чтобы понять, что и с ней творится то же самое. Она бросила чашку на землю, прикрывая рот ладонями, потом одно рукой схватила кружку с масато. Она пыталась отпить сока, но он выливался, тек по подбородку. Они с Морганом в ярости уставились на Генри, а тот преспокойно улыбался.
– Фо факое ва вянь, – завопил Морган на пигмея, а тот вдруг вскочил и заплясал среди хохочущих мужчин и женщин.
– Это же прекрасно! – отозвался он. – Просто чудесно, Морган. Попробуй – и поймешь!
– Ы ас ааил! – промычал Морган.
– Я вас не травил. Вы меня завтра еще поблагодарите. Как говорится, пей-гуляй-веселись! завтра будет поздно!
Сара смеялась и, похоже, не замечала, что масато больше льется ей на рубашку, чем в рот. И Морган тоже засмеялся, и в голову ему пришло, что они пьяны. То ли дело было в «масато», то ли просто в невероятном облегчении после напастей последних дней. Кто знает? Ему хорошо. Он счастлив. Двое самых близких ему людей рядом, остальное не важно.
Он упал на землю и стал кататься по пыли, не чувствуя больше ни жары, ни боли, которая терзала до этого его тело и душу. Он слышал только смех Сары – он музыкой разливался в воздухе, птичьими пересвистами, пением ангелов. И была музыка – глубокая и пульсирующая – у него в душе, в груди, она звучала в ритме сердца. И свет костров взвивался до небес, а когда женщины повели хоровод вокруг костра, кожа их блестела, как оникс.

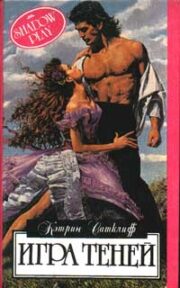
"Игра теней" отзывы
Отзывы читателей о книге "Игра теней". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Игра теней" друзьям в соцсетях.