В полночь я перелез через ограду парка, но едва сделал несколько шагов, как кто-то схватил меня за плащ. На всякой случай я взял с собой небольшой нож и хотел уже выхватить его, но, к счастью, узнал Лилу.
— Позвольте сказать вам одно слово, синьор Лелио, — шепнула она. — Не сказывайте барышне, что вы женаты.
— Что я женат, моя милая? Да я совсем не женат.
— Это уже не мое дело, — отвечала Лила, — но только, рада Бога, не говорите об этой синьоре, которая живет с вами.
— Так ты хочешь помогать мне, душенька?
— Нисколько, синьор! О нет, совсем нет! Напротив, я всячески стараюсь удерживать синьору от шалостей. Но она меня не слушается. А если б я сказала ей то, что может и должно навсегда удалить ее от вас… Я не знаю, что бы тогда было!
— Я ничего не понимаю. Скажи, пожалуйста, о чем же ты говоришь?
— Вы видели сегодня, какая она горячая и решительная. У нее такой странный характер! Рассерди ее, так она Бог знает что наделает. С месяц назад, когда ее разлучили с матерью и увезли сюда, она хотела принять яд. Всякий раз, когда тетушка, правду сказать, ворчунья ужасная, ее огорчает, у нее делаются нервные припадки, так, что она точно будто помешанная. Вчера мне вздумалось сказать ей, что вы может быть влюблены в кого-нибудь. Она бросилась к открытому окну, крича как безумная: «О, если б я это знала!..» Я схватила ее, расшнуровала, уложила в постель, закрыла окна и не отходила от нее всю ночь. Она все плакала, иногда на минуту забывалась, но потом вдруг пробуждалась как будто в испуге и бегала по комнате, как безумная. Ах, синьор Лелио, мне так жаль бедную барышню, я ее так люблю! Характер у нее престранный, но вы не можете вообразить, как она добра, великодушна! Сделайте милость, не доводите ее до отчаяния. Я уверена, я знаю, что вы честный человек; в Неаполе все это говорили. И, бывало, барышня с восторгом слушает, когда рассказывают о ваших добрых делах. Вы, верно, не захотите обмануть ее, и если вы точно любите эту синьору, которая живет у вас…
— Да кто ж тебе сказал, Лила, что я в нее влюблен? Это сестра моя.
— О, нет, синьор Лелио, я знаю, что это неправда; я спрашивала. Вы, может быть, скажете, что я не в свое дело мешаюсь, слишком любопытна? Нет, синьор Лелио, я, право, не любопытна. Но ради Бога, любите мою бедную барышню, как брат сестру, как отец дочь. Подумайте только, что она совершенный ребенок, недавно вышла из монастыря и не знает даже, что о ней люди могут сказать. Она говорит, что ей до этого и надобности нет; а, избавь Бог, случись что-нибудь, так с ней и неизвестно что сделается. Поговорите с ней хорошенько, растолкуйте ей, что видеться вам с ней потихоньку невозможно, но обещайте, что вы станете ездить к матушке ее, когда мы воротимся в Неаполь. Матушка ее такая добрая, так любит дочку: я уверена, что она захочет потешить ее и станет приглашать вас к себе. Может быть, этак страсть барышни понемножку и пройдет. Иногда займем ее чем-нибудь, позабавим, она и забудет то, о чем прежде думала. Я рассказывала ей о вашем прекрасном ангорском коте, который всё ласкался к вам, когда вы читали письмо ее, так что вы принуждены были оттолкнуть его ногой. Барышня терпеть не может собак, а кошек очень любит. Ей страх хочется видеть вашего кота; вы бы подарили ей его: я уверена, что это заняло бы и развеселило ее на несколько дней.
— Если мой кот может утешить госпожу твою в том, что она меня не видит, то беда еще не велика, и этому горю легко помочь. Будь уверена, Лила, что я стану вести себя с твоей синьорой, как отец и друг. Однако же, пусти меня к ней; она, я думаю, ждет.
— Позвольте, синьор Лелио, еще словечко. Если вы хотите, чтобы барышня вас слушалась, то польстите немножко ее боярской спеси; все эти Гримани ужасно заняты своей знатностью. Вообразите, что она отказала уже нескольким молодым людям, богачам таким, что ужасть!.. и говорит, что они недостаточно знатны для нее. Соглашайтесь только с ней, синьор Лелио, так она станет вас слушаться. Ах, если б вы уговорили ее выйти за одного молодого графа, который за нее сватается!..
— За Гектора, что ли?
— О нет! Этот дуралей наскучил всем, даже своим собакам: и они зевают, как только его увидят.
Слушая болтовню Лилы, которая уже совсем не боялась меня, я между тем вел ее потихоньку к месту, где мне было назначено свидание. Конечно, рассказы ее были для меня очень интересны; все эти подробности, по-видимому, мелочные, имели большую важность для меня, потому что знакомили меня с этой загадочной синьориной. Надо признаться, однако, что они очень унимали мой жар: мне казалось чрезвычайно смешным быть героем пламенной страсти в соперничестве с первым попавшимся котом, с моим Солиманом. Советы Лилы совершенно согласовались с моими собственными мыслями и намерениями.
Когда мы подошли, синьорина сидела у пьедестала статуи, вся в белом; костюм, конечно, не совсем пригодный в тайном свидании на чистом воздухе, но тем более согласный с логикой ее характера. Увидев меня, она и не пошевелилась, так что ее можно было бы принять за белую мраморную статую.
Она не отвечала на первые мои слова. Облокотившись на колено и опираясь подбородком на руку, она была так задумчива, так прекрасна, так живописна в своем белом покрывале при свете луны, что я мог бы предположить в этой головке какие-нибудь высокие думы, если б только не вспомнил о ее страсти к коту.
Так как она, по-видимому, решилась не обращать на меня внимания, то я попробовал взять ее за руку; но она ее отдернула, сказав мне величавее Людовика XIV:
— Я ждала!
Я не утерпел, чтобы не засмеяться, услышав эту торжественную цитату, но моя веселость заставила ее принять еще более важный вид.
— Прекрасно! — сказала она. — Смейтесь, смейтесь вволю: это очень кстати и вовремя.
Синьорина произнесла эти слова с горькой досадой, и я увидел, что она не на шутку сердится. Перестав смеяться, я просил прощения в невольной вине своей, прибавив, что ни за что в свете не хотел бы огорчить ее. Она поглядела на меня с сомнением, как будто не зная, верить мне или нет. Но я начал говорить ей с таким чувством о моей преданности и привязанности, что она наконец поверила.
— Тем лучше, тем лучше, — сказала она. — Если б вы не любили меня, вы были бы очень неблагодарны, а я очень несчастлива.
Заметив, что я удивлен этими словами, она вскричала:
— О Лелио, Лелио! Я люблю вас с тех пор, когда в первый раз видела в Неаполе, как вы играли Ромео и когд, а я смотрела на сцену с холодным и презрительным видом, который так напугал вас. О, как красноречивы и страстны вы были в этот вечер в своем пении! Луна освещала вас так же, как теперь, но не такая прекрасная, а Джульетта была вся в белом, как я. А вы мне ничего не говорите, Лелио?
Эта странная девушка как будто очарованием увлекала меня везде и всюду по воле своей изменчивой прихоти. Когда ее не было со мной, мысли мои освобождались из-под ее власти, и я свободно разбирал ее слова и поступки; но при ней я не имел другой воли, кроме ее собственной, сам не зная, каким образом это делалось. Этот порыв нежности воспламенил меня. Сколько я ни обещал себе быть как можно благоразумнее, но все эти намерения разлетались как дым, и я не мог произносить ничего, кроме слов любви. Совесть всякую минуту напоминала мне о долге чести, но, несмотря ни на что, отеческие мои увещания всегда превращались в любовные изъяснения. Странная судьба, или, лучше сказать, слабость человеческого сердца, которое всегда уступает увлекательности насущного наслаждения, беспрестанно заставляла меня говорить противоположное тому, что нашептывала мне совесть. Я всячески старался доказывать себе, что не делаю ничего дурного, что иначе и быть не может, что говорить с этим ребенком языком рассудка, который растерзал бы ее сердце, было бы бесполезной жестокостью, что я всегда еще успею открыть ей истину, и прочее. Одно обстоятельство, которое, по-видимому, должно было бы уменьшить опасность, напротив, только увеличивало ее. Это обстоятельство было присутствие Лилы. Не будь ее, я бы строже наблюдал сам за собой. Таким образом, я скоро дошел до тона самой пылкой, хоть и самой чистой страсти. Поддаваясь непреодолимому влечению, я схватил локон прекрасных волос ее и с восторгом целовал его.
Потом, сам не знаю почему, я почувствовал необходимость уйти и поспешно оставил синьорину, сказав:
— До завтра!
В продолжение этой сцены я мало-помалу забыл прошедшее и ни минуты не думал о будущем. Голос Лилы, которая меня провожала, разбудил меня от восторга.
— Ах, синьор Лелио, — сказала она, — вы не сдержали своего слова. Вы не были ни отцом, ни другом моей барышни!
— Правда твоя, — сказал я печально, — точно правда; я виноват. Но будь спокойна, моя милая, завтра я все поправлю.
Завтра наступило, но второе свидание было такое же, как первое; третье такое же. Только всякий раз я влюблялся всё более, и то, что было в первый вечер нежной привязанностью, в третий превратилось уже в настоящую страсть. Если б я сам этого не заметил, то мог бы догадаться по печальному лицу Лилы. Всю дорогу я думал о будущности этой любви и воротился домой бледный и печальный.
— Ну что, не говорила ли я тебе, что ты скоро будешь плакать! — сказала мне Кеккина.
В следующую ночь я опять пошел на условленное свидание. Синьорина была по-прежнему весела, в восторге, а я несколько времени не мог разогнать своей задумчивости и был молчалив. Она пристально на меня посмотрела и, взяв меня за руку, сказала:
— Вы печальны, Лелио. Что с вами?
Я открыл ей свое сердце и сказал, что страсть к ней для меня — истинное несчастье.
— Несчастье! Почему же это?
— Вот почему, синьора. Вы преемница имени и наследница богатства знатной фамилии. Вы воспитаны в уважении к своим благородным предкам. А я… у меня нет прошедшего, я человек ничтожный, сам сделался тем, что я теперь. Ясно, что выйти за меня замуж вам невозможно. Все вам это запрещает: ваши идеи, ваше воспитание, ваше положение. Вы отказывались от руки графов и маркизов, потому что они были недостаточно знатны для вас: как же вы можете унизиться до актера? От принцессы до комедианта далеко, синьора. Следственно, я не могу быть вашим мужем. Что ж мне остается? Что ожидает меня в будущем? Несчастная любовь или надежда быть несколько времени вашим любовником? Я не хочу ни того ни другого, синьора.

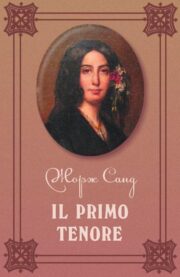
"Il primo tenore" отзывы
Отзывы читателей о книге "Il primo tenore". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Il primo tenore" друзьям в соцсетях.