В продолжение следующего акта я по временам посматривал на ложу, где сидела красавица. Я уже не думал о том, что она — мой недоброжелательный судья, потому что, как говорил Нази, эти Гримани всегда так же надменны, даже с равными. Я глядел на эту девушку с безмятежностью скульптора или живописца, и она показалась мне еще прекраснее. Рядом с нею сидел старик Гримани, человек с правильным и холодным лицом. Они почти не разговаривали между собой, изредка только обменивались односложными словами и, по окончании оперы, уехали, не дожидаясь балета.
На следующий вечер старик и девушка сидели в той же самой ложе, с тем же самым флегматическим видом. Я ни разу не заметил искры чувства на их холодных лицах, а при последних действиях князь Гримани преспокойно себе спал. Девушка, как мне казалось, с большим вниманием смотрела на сцену. Большие ее глаза были неподвижно устремлены на меня, как глаза привидения, и этот прямой, испытующий, глубокий взгляд до того беспокоил меня, что я наконец стал избегать его. Но я был как будто околдован и чем больше отворачивал глаза, тем чаще сталкивались они с непреклонным взглядом волшебницы. В этом магнетическом таинстве было что-то такое странно-могущественное, что мне стало боязно, и я думал, что не в состоянии буду кончить пьесы. Никогда не чувствовал я ничего подобного. Были минуты, когда мне казалось, будто эта мраморная фигура мне знакома, и я готов был обратиться к ней с дружеским приветствием. Иногда мне напротив приходило в голову, что это моя неприятельница, мой злой гений, и в готов был осыпать ее проклятиями.
Seconda donna[8], Кеккина, еще увеличила мое болезненное смущение, сказав мне вполголоса:
— Берегись, Лелио, ты схватишь лихорадку. Эта женщина хочет тебя сглазить!
Большую часть моей жизни я твердо верил влиянию дурного глаза. Нынче я этому уже не верю, но любовь к чудесному, которую нелегко выжить из итальянской головы, завлекла меня в самые безрассудные бредни животного магнетизма. В то время эти нелепости процветали во всем мире. Гофман писал тогда свои фантастические сказки, и магнетизм был таинственным центром, вокруг которого вертелись все надежды иллюминизма[9]. Точно ли эта слабость совершенно овладела мною, или только она напала на меня в такое время, когда я и без того уже был расположен к болезни, — не знаю, но только со мною сделалась дрожь, и я едва не лишился чувств, когда опять вышел на сцену. Наконец досада преодолела во мне это постыдное уныние, и, когда мне случилось подойти с Кеккиной к авансцене, я сказал вполголоса, указав на мою прекрасную неприятельницу и пародируя стих из одной трагедии: «Bella e stupida»[10].
Краска гнева выступила на лице синьоры. Она обернулась было, чтобы разбудить князя Гримани, который спал глубоким сном. Потом вдруг остановилась, как будто передумала, и по-прежнему пристально смотрела на меня, но с выражением мести и угрозы, как будто говоря: «Я заставлю тебя раскаяться!»
При выходе из театра граф Нази опять подошел ко мне и сказал:
— Берегитесь, Лелио! Вы решительно влюблены в Гримани.
— Неужели же я околдован? — вскричал я. — Странное дело, что я никак не могу избавиться от этого видения!
— Да и не скоро избавишься, бедняк, — сказала Кеккина полупростодушным, полунасмешливым тоном. — Эта Гримани — сам демон в женском платье. Постой-ка, я пощупаю у тебя пульс.
— Corpo della Madonna![11] — вскричала она. — У тебя ужасная лихорадка, Лелио.
— Немудрено быть лихорадке, когда он играет и поет так, что у других делается лихорадка, — сказал граф Нази. — Поедем ко мне ужинать, Лелио.
Я отказался. Я действительно был нездоров. Всю ночь меня била лихорадка, и на другой день я не мог встать с постели. Кеккина поместилась у моей постели и не покидала меня во все время моей болезни.
Кеккина была девушка лет двадцати, высокая, здоровая, красоты немножко мужской, но очень бела и со светло-русыми волосами. Она была мне двоюродная сестра, дочь весьма бедных родителей, которые даже не в состоянии были дать ей приличного воспитания. Настоящая итальянка; не кровь, а огонь струился у нее в жилах. Отец ее, житель Кьоджи, как и мои родители, всей душой ненавидел французов. Надо же было этой несчастной влюбиться в какого-то французского подпрапорщика! Она бежала с ним из отцовского дома. Подпоручик обольстил ее, обманул и бросил на дороге недалеко от Милана. Бедняжка не знала, куда приклонить голову, и решилась ходить по окрестным дачам с гитарой в руках и петь под окнами венецианские песни. Голос у нее был прекрасный, но щедрость слушателей не превосходила нескольких паолов в сутки. Я ее встретил случайно в Милане, в одном трактире, где она пела для забавы обедающих. По ее выговору я тотчас узнал, что она тоже из Кьоджи. Я стал ее расспрашивать и вспомнил, что видел ее, когда она была еще ребенком. Но я не сказал ей, что мы родня, и имел на это важную причину. Надо вам знать, что когда я был молод, в Кьоджи была еще в большом употреблении дуэль на ножах, которая происходила обыкновенно днем, на площади, причем все жители служили секундантами. К несчастью, на одной из этих дуэлей я убил своего соперника, принужден был бежать и скрывался под именем Лелио. По временам я пересылал деньги моим родителям, но не открывал им, чем я живу.
Благодаря моим стараниям, Кеккина вскоре выучилась петь и незадолго до того времени, о котором я рассказываю, была принята с хорошим жалованьем на театр Сан-Карло.
Кеккина была девушка очень доброй души, но престранная. Она сделала большие успехи с тех пор, как я, так сказать, подобрал ее в Милане. Жесты ее были уже не так размашисты, говорила она не так отрывисто, как прежде, однако же иногда всё еще была довольно смешна в трогательных местах своих ролей. Один остряк, аббат, говорил, будто она так близка к высокому и смешному, что между ними ей негде размахнуть своими длинными руками.
Со своей пылкой душою, Кеккина сразу сделалась актрисой, и притом она страстно любила свое искусство. Сначала она была так бедна, что я принужден был держать ее у себя. С тех пор она всегда питала ко мне живейшую благодарность. Я многим обязан ее попечительности, доброте и неизменной признательности. Она всегда была мне другом, нежной сестрой и не раз рисковала рассориться с самыми богатыми своими любовниками, чтобы только не покинуть меня, когда я бывал болен или почему-нибудь имел нужду в ее содействии.
Она поместилась подле моей кровати и не отходила от меня, пока совсем не вылечила. Это немножко сердило графа Нази, который был тогда ее amoroso[12]. Когда я старался уговорить ее, чтобы она пощадила ревнивость этого молодого человека, она вскричала:
— Э, полно! Неужели же ты думаешь, что даже когда он на мне женится, я покину театральных приятелей и посмотрю на то, что скажут обо мне в свете?
Бог знает, почему ей вздумалось, будто граф непременно на ней женится. Она всегда воображала себе, что в нее влюблены так, что готовы на все возможные дурачества, и легковерность ее в этом случае равнялась только героической твердости, с которой она переносила крушения всех надежд своих.
Я был очень болен. Врачи находили, что я весьма склонен к водянке в груди. Мне несколько раз пускали кровь, ставили пиявок, и я до того ослаб, что не в состоянии был петь ещё долго. Как скоро я стал оправляться, врачи советовали мне отдохнуть несколько времени, подышать легким воздухом у подошвы Апеннинских гор, и граф Нази предложил мне ехать в его виллу в Кафаджоло, в нескольких милях от Флоренции. Он обещал мне приехать туда с Кеккиной, как скоро кончатся представления, на которые она была ангажирована в Неаполе.
В этом прелестном уединении я за несколько дней поправился так, что мог уже гулять пешком и верхом по ущельям и живописным долинам, которые составляют как бы первую ступень Апеннинской цепи.
Однажды я как-то нечаянно попал на дорогу, ведущую во Флоренцию. Она тянулась, как блестящая белая лента по зеленеющейся волнистой равнине, усеянной садами, тенистыми парками и красивыми виллами. Стараясь присмотреться к месту, я остановился у ворот одной из этих прекрасных дач.
Ворота были отворены и вели в аллею, в которой старые деревья таинственно переплетались между собой ветвями. Под этим мрачным, сладострастным сводом прохаживалась какая-то женщина с таким стройным станом, с такой благородной поступью, что я невольно остановился, чтобы подольше полюбоваться на нее. Она, казалось, не намерена была обернуться, и мне припала смертная охота посмотреть, какова она лицом. Я тотчас предался этому влечению, не подумав о том, что, входя без спросу в чужой сад, могу навлечь себе неприятность. «Кто знает, что случится! — говорил я сам себе. — У нас в Италии женщины так снисходительны!» Притом мне приходило в голову, что лицо мое очень известно, и впрямь никто не примет меня за вора. Наконец, я знал и то, что многим очень любопытно посмотреть вблизи на актера, который пользуется столь громкой известностью.
Я пустился по тенистой аллее и шел так скоро, что уже почти догнал незнакомку, как вдруг навстречу ей вышел молодой человек, одетый по последней моде, довольно хорошенький, но жеманный. Он тотчас меня увидел, так что я и не успел спрятаться. Я был шагах в трех от этой высокородной четы. Молодой человек остановился перед дамой, подал ей руку, посмотрел на меня с таким удивленным видом, какой только позволял ему принять накрахмаленный галстук, и сказал:
— Что это за молодой человек идет за вами, кузина?
Дама оглянулась, и я остолбенел. Сердце мое сильно, болезненно забилось, когда я узнал девушку, которая так странно смотрела на меня из своей ложи, перед тем как я захворал в Неаполе. Лицо ее покрылось легкой краской, потом немножко побледнело. Но ни одно восклицание, ни малейшее телодвижение не обличили в ней удивления или негодования. Она с надменным хладнокровием окинула меня взором с ног до головы, и потом преспокойно сказала:

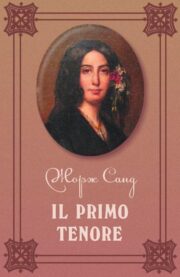
"Il primo tenore" отзывы
Отзывы читателей о книге "Il primo tenore". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Il primo tenore" друзьям в соцсетях.