Я уже готовил было щит, чтобы принять тучу острых эпиграмм в вид комментария на мой справедливый, но, надо признаться, довольно невероятный рассказ. Однако же синьора Гримани, взглянув на меня с кротостью, которая показалась мне очень удивительной на ее прекрасном, но строгом лице, нагнулась немножко на ручку своих кресел и сказала:
— В самом деле, синьор Лелио, по вашему лицу видно, что вы были очень больны. И, признаюсь вам, когда я вас вчера увидела, мне пришло в голову, что, верно, я не рассмотрела вас на сцене, потому что вы мне казались годами десятью моложе. Теперь вы мне не кажетесь старше, чем в театре, но только заметно, что вы были больны, и мне очень жаль, что я отчасти этому причиною…
Я невольно подвинул немножко свои кресла поближе к ней, но лукавая девушка тотчас переменила тон.
— Теперь перейдем ко второй части вашей истории, синьор Лелио, — сказала она, играя опахалом. — Растолкуйте мне, зачем вам вздумалось преследовать девушку, вид которой был для вас так несносен и пагубен? Вам, кажется, скорее надо было убегать от нее.
— Эта часть истории очень затруднительна для автора, — сказал я, отодвинув кресла, которые катались при малейшем движении. — Сказать ли мне, что я попал сюда случайно? И если я скажу это, то поверите ли вы мне? Если же я признаюсь, что завлечен сюда не случаем, то не рассердитесь ли вы?
— Мне всё равно, — отвечала она, — каким образом вы попали в нашу сторону, случаем ли или по какому-нибудь магнетическому влечению, как вы бы выразились. Мне только хочется знать, почему вам вздумалось притвориться настройщиком.
— Так!.. Первая мысль, которая пришла мне в голову — предлог, чтобы как-нибудь пробраться в ваш дом.
— Но зачем же вам хотелось пробраться сюда?
— Я буду отвечать вам откровенно, если только вашему сиятельству будет угодно сказать мне, отчего вы позволили мне пробраться сюда, когда вы узнали меня с первого взгляда?
— Прихоть, каприз, синьор Лелио, и больше ничего. Мне скучно было с моим жеманным братцем и со старой тетушкой, которой я почти не знаю. Мне пришло в голову, что этой шалостью можно разогнать скуку одиночества, когда Гектор уходит на охоту, а тетушка уезжает в церковь.
Кресла мои как будто сами к ней приближались, и я хотел, но еще не решался, взять ее руку. В эту минуту синьора Гримани казалась мне совсем не пугливой. Бывают девушки, которые родятся женщинами и развращены уже, прежде чем лишатся невинности. Она, конечно, ребенок, думал я, но ребенок, которому очень хочется быть взрослым, и я, право, был бы просто глупец, если не отвечал ее хладнокровному и смелому кокетству. Тем хуже для кузена! Вольно же ему так пристраститься к охоте!
Но синьора и не обращала внимания на мое волнение. После минутного молчания она сказала:
— Теперь фарс сыгран, мы съели дичину моего любезного кузена, и я разговаривала с актером. Это страшная мистификация и для тетушки и для моего любезного жениха. На прошлой неделе Гектор был в отчаянии оттого, что я хвалила вас, по его словам, со слишком пылким энтузиазмом. Теперь, когда он станет говорить о вас, и когда тетушка примется в сотый раз рассказывать, что во Франции все актеры отлучены от церкви, я потуплю глаза с невинным и скромным видом, а про себя буду смяться, вспоминая, что я знаю синьора Лелио, что я даже с ним завтракала здесь, и что никто об этом и не догадывается. Теперь вы должны сказать мне, отчего вам вздумалось пробраться сюда под чужим именем.
— Позвольте, синьора… Вы сказали одну вещь, которая меня поразила… На прошлой неделе вы расхваливали меня с энтузиазмом?
— О, только для того, чтобы взбесить Гектора. Я от природы совсем не способна к энтузиазму.
Как скоро она начинала снова надо мной посмеиваться, мне опять не хотелось покинуть этого приключения, и я делался смелее.
— Если вы так откровенны, — отвечал я, — то и я буду говорить правду. Я пробрался сюда для того, чтобы загладить свое преступление и смиренно просить прошения у прекрасной девицы, которую я обидел.
Я опустился с кресел и был уже у ног синьоры Гримани, готовый схватить ее руки. Это, казалось, ее не тревожило; только я заметил, что она, стараясь скрыть небольшое смущение, притворилась, будто со вниманием рассматривает мандарины, золотые и алые платья которых блестели на ее опахале.
— О, Боже мой! — сказала она, не глядя на меня. — Вы напрасно думаете, сударь, что должны просить у меня прощения. Если у меня в самом деле глупое лицо, то почему же вам было этого и не заметить? Если же нет, то мне всё равно, что вы это думаете.
— Клянусь всеми богами, и Аполлоном в особенности, что я сказал это в досаде, в помешательстве, может быть, по внушению другого чувства, которое тогда еще только рождалось и уже помутило мой рассудок. Я видел, что чрезвычайно вам не нравлюсь, что вы не имеете ко мне ни малейшей снисходительности: мог ли я отказаться от единственного одобрения, которое было бы мне приятно, которым бы я гордился? Как бы то ни было, синьора, но я здесь, я открыл ваше жилище, и, едва зная ваше имя, я вас искал, преследовал, наконец настиг, несмотря ни на расстояния, ни на препятствия; и теперь я у ног ваших. Неужели же вы думаете, что я преодолел бы все эти затруднения, если б меня не мучило раскаяния, не перед вами, потому что вы очень мало заботитесь о том, какое впечатление произведут ваши прелести на бедного актера, но перед Богом, за то, что я осмелился порицать прекраснейшее из его созданий?
Говоря таким образом, я взял ее руку, но синьора вдруг вскочила с кресел, сказав:
— Вставьте, сударь, встаньте. Гектор воротился с охоты.
Я едва только успел подбежать к фортепиано и открыть его, как синьор Гримани вошел в охотничьем платье с ружьем в руках и положил к ногам своей кузины сумку с дичиной.
— Ох! Не подходите ко мне так близко, — вскричала синьора. — Вы весь в грязи, и мне гадко смотреть на ваших окровавленных собак. Ах, Гектор, подите пожалуйста прочь и уведите своих гадких собак! Они марают пол.
Бедный Гектор принужден был удовольствовать с этим изъявлением благодарности и отправился в свою комнату мыться и душиться. Но только что он ушел, явилась какая-то дуэнья и объявила синьоре, что тетка ее приехала и зовет ее к себе.
— Сейчас иду, — сказала она. — А вы, господин настройщик, возьмите изломанную клавишу с собой, почините ее хорошенько и принесите завтра; притом вам надо еще натянуть оборванные струны. Так вы придёте? Можно на вас надеяться?
— Непременно приду, ваше сиятельство.
И я ушел, унося с собой клавишу, которая совсем не была изломана.
Само собой разумеется, что на другой день я опять явился. Но из этого не надо, однако, заключать, чтобы я был влюблен в синьору Гримани; разве только, что она мне немножко нравилась. Она была чрезвычайно хороша, но я видел эту красоту только глазами тела, душой я ее не чувствовал. Иногда ее ребяческая живость начинала увлекать меня, но потом опять нападало на меня сомнение: мне приходило в голову, что она, может быть, обманывает меня, так же как обманывает кузена и гувернантку. Притом мне приходило в голову, что, может быть, ей и действительно двадцать лет, как мне сначала казалось, и — кто знает — может, она наделала уже несколько шалостей, за которые ее и засадили в этом скучном замке, со старой тёткой для надзора и с добрым кузеном, которому суждено прикрыть своим именем ее прошедшие и будущие проделки.
Когда я пришел, она была в зале с Гектором и с тремя или четырьмя огромными охотничьими собаками, которые чуть не загрызли меня. Непостоянная синьора принимала этих благородных животных уже совсем не так, как накануне, и хотя они были по-прежнему грязны и отвратительны, но она позволяла им валяться поодиночке и всем вместе на алой бархатной софе с золотой бахромой. По временам она садилась между ними, одних гладила, других сердила.
Мы показалось, что этой благосклонностью к собакам она хотела сделать удовольствие кузену, потому что светло-русый синьор Гримани был действительно чрезвычайно доволен. И я, право, не знаю, на кого он смотрел с большей нежностью — на собак или на кузину.
Она была так жива, так весела, бросала на меня в зеркале такие пылкие взгляды, что мне очень хотелось, чтобы господин кузен поскорее убрался. И точно, он через несколько минут вышел. Синьора дала ему какое-то поручение. Заметно было, что ему не хотелось идти, но наконец она взглянула на него с повелительным видом и сказала: «Так вы не хотите идти!» — таким тоном, которому он, очевидно, не смел противиться.
Как скоро он вышел, я встал и старался угадать по глазам синьоры, могу ли подойти к ней или должен подождать, чтобы она сама приблизилась. Она тоже стояла и, казалось, хотела прочесть в моих взорах, на что я решился. Но взоры ее нисколько не ободряли меня, и уста были полураскрыты, готовые, кажется, задать мне такой урок, что я невольно смутился.
Не знаю, отчего этот странный обмен взглядов, и ласковых и вместе с тем недоверчивых; это внутреннее кипение всего нашего существа, удерживавшее нас неподвижными вдалеке друг от друга; эти быстрые и непостижимые переходы от отважности к опасению, которые оковывали меня, может быть, в самую решительную минуту; всё, даже черное бархатное платье синьоры Гримани; даже блестящее солнце, золотистые лучи которого, пробиваясь сквозь мрачные шелковые занавески окон, умирали у наших ног в фантастической светотени; даже время, знойная атмосфера и сильное биение моего сердца — все напоминало мне нечто похожее на эту сцену в моей юности. Я вспомнил, как синьора Бианка Альдини, сидя в тени гондолы, оковала меня одним магнетическим взглядом, когда я уже стоял одной ногой на берегу Лидо[15], а другою в гондоле. Я чувствовал то же самое смущение, то же внутреннее волнение, те же желания, готовые уступить той же досаде. Мне пришло в голову: неужели же я тогда желал обладать Бианкой только из самолюбия или теперь желаю обладать синьорой Гримани из любви?

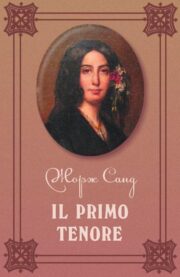
"Il primo tenore" отзывы
Отзывы читателей о книге "Il primo tenore". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Il primo tenore" друзьям в соцсетях.