— О, конечно! Доказательство неоспоримое! Приветствую тебя, королева Баратарии[17]!
— Что за Баратария? Новая опера, что ли?
— Нет, это название планеты, которая управляет твоей судьбой.
Мы приехала в Кафаджоло и не нашли там Нази.
— Планета твоя бледнеет, фортуна тебя покидает, — сказал я Кеккине.
Она закусила губы, но потом тотчас сказала, улыбаясь:
— На лагунах всегда туман перед тем, как солнце встает. Во всяком случае, надо подкрепиться, чтобы выдержать удары судьбы.
Говоря таким образом, она села за стол, съела почти целую индейку с трюфелями, потом проспала двенадцать часов без просыпу, провела три часа за туалетом и до самого вечера блистала умом и безрассудством. Нази не приезжал.
Что касается меня, то, несмотря на живость и веселость, которые эта добрая девушка разлила в моем уединении, приключение мое в вилле Гримани не выходило у меня из головы, и я мучился желанием хоть раз еще увидеть мою прекрасную синьору. Но каким образом? Я не мог придумать ни одного средства, которое бы ее не компрометировало. Расставаясь с ней, я дал себе слово поступать как можно осторожнее. Вспоминая последние минуты нашего свидания, когда она была так простодушна и трогательна, я убедился, что не могу ветреничать с ней, не лишаясь собственного своего уважения.
Я не смел расспрашивать не только о ней самой, но даже о том, кто живет на вилле Гримани; не хотел знакомиться ни с кем в окрестностях, и теперь очень жалел об этом, потому что иначе мог бы узнать случайно то, о чем не смел разведывать. Слуга мой был неаполитанец и, так же как я, в первый раз в этой стороне. Садовник был глух и глуп. Старая ключница, которая управляла домом с самого детства Нази, могла бы сообщить мне все, что нужно; но я не смел ее расспрашивать, потому что она была до крайности любопытна и болтлива. Ей непременно надо было знать, куда я хожу, и в эти три дня, когда я не приносил ей дичины и не говорил, где был, она ужасно тревожилась. Я дрожал, чтобы она не проведала о моем романе. Одно только имя могло бы доставить мне нужные сведения, но я не мог произносить его.
Мне не хотелось ехать во Флоренцию, потому что там все меня знали и, как скоро я бы появился там, приятели набежали бы ко мне толпами. А я приехал в Кафаджоло в совершенно болезненном и мизантропическом состоянии и скрыл своё имя не только от окрестных жителей, но даже от домашних слуг. Теперь я больше, чем когда-либо, должен был сохранять свое инкогнито, потому что графа ждали с часу на час. А так как он собирался жениться, то верно не стал бы открывать, что Кеккина живет у него в доме.
Прошло два дня. Я не выходил, и граф Нази, от которого одного я мог что-нибудь узнать, не приезжал. Кеккина захворала от последствий своего неудачного путешествия. Быть может, и то, что ей не хотелось показать мне, что поджидает графа, между тем как прежде клялась, что не хочет его видеть: ей, вероятно, приятно было найти предлог оставаться подольше в Кафаджоло.
Хорошенькая пятнадцатилетняя синьорина, со своими прелестными беленькими ручками и выразительными черными глазами так и вертелась у меня в голове.
Однажды не мог я больше выдержать, схватил шляпу, сумку, свистнул собаку и отправился на охоту, забыв взять только ружье. Я долго бродил вокруг виллы Гримани, но не видал ни души, не слыхал ни малейшего человеческого звука. Все решетки парка были заперты, и я заметил, что в большой аллее, сквозь которую видна нижняя часть дома, срублено несколько деревьев, которые своими густыми листьями совершенно закрыли фасад. Неужели же эти баррикады сделаны с намерением? Мщение ли это кузена? Предосторожность ли, принятая теткой? Или лукавство самой синьорины? О, если б я только мог это подумать! Но я этого не думал. Мне приятнее было предполагать, что она тоскует о том, что меня не видит, и что сама заключена как бы в неволе, и я делал множество смешных и нелепых предположений, как бы освободить ее.
Возвратясь в Кафаджоло, я нашел в комнате Кеккины хорошенькую крестьяночку, и тотчас узнал ее: то была молочная сестра синьоры Гримани. Кеккина без церемоний посадила ее в ногах у себя на постели, и как скоро я вошел, она сказала:
— Эта хорошенькая девушка хочет с тобою поговорить, Лелио. Я приняла ее под свое покровительство, потому что Катина непременно хотела ее выгнать. По ее скромному виду я тотчас догадалась, что она честная девушка, и не делала ей никаких нескромных вопросов. Не правда ли, красавица? Полно же конфузиться! Поди в гостиную с синьором Лелио. Я совсем не любопытна и никогда не мешаю моим приятелям; у меня и без того много дел.
— Пойдем, душенька, — сказал я, — и не бойся; ты здесь с честными людьми.
Бедняжка стояла задумавшись, не зная, что делать, и в таком смущении, что жалко было смотреть на нее. Хотя до тех пор у нее доставало духу скрывать, за чем пришла, однако, в замешательстве своем, она то вынимала до половины из кармана своего передника какое-то письмо, то опять его прятала, не зная, о чем больше заботиться — о чести госпожи или о своей собственной.
— О, Боже мой! — сказала она наконец дрожащим голосом. — Я боюсь, чтобы эта синьора не подумала, что я пришла с какими-нибудь дурными намерениями…
— Я! Не беспокойся, моя милая; я ровно ничего не думаю, — вскричала добрая Кеккина, развернув книгу и смотря в нее сквозь лорнет. У нее были очень хорошие глаза, но она думала, что светской женщине непременно надо иметь слабое зрение.
— Мне бы очень жаль было, синьора, — прибавила девушка, — если б вы подумали обо мне что-нибудь дурное. Вы такие добрые и приняли меня так милостиво!
— Да ты такая скромная и милая девушка, что тебя нельзя не принять хорошо! Ты этого стоишь, — отвечала певица. — Поди расскажи синьору Лелио свое дело. Я женщина скромная, ни допытываться, ни сердиться не стану. Возьми же ее, Лелио. Бедняжка, она трусит, как будто попала в волчью берлогу! Полно, моя милая, актеры такие же добрые люди, как и другие.
Девушка низко поклонилась и пошла за мной в гостиную. Сердце ее билось так сильно, что едва не разрывало зелёного бархатного корсажа, а щеки алели, как ее юбка. Она торопливо вынула письмо из кармана и тотчас отступила от меня на три шага: бедняжка боялась, чтобы я не распорядился с ней так же, как в первый раз. Я успокоил ее своим холодным видом и спросил, не приказано ли сказать мне еще чего-нибудь.
— Мне приказано подождать ответа, — сказала она, очевидно тревожась тем, что должна еще несколько времени пробыть у нас в доме.
— Ну так поди подожди в комнате синьоры, — отвечал я.
И я отвел ее к Кеккине.
— Эта миленькая девушка, — сказал я, — определяется к одной знакомой мне даме во Флоренции и просит рекомендательного письма. Позволь ей остаться у тебя, пока я напишу.
— Да, да, почему же нет! — сказала Кеккина, показав ей, чтобы она села и улыбаясь с дружелюбно-покровительственным видом.
Эта кротость и ласковость с простолюдинами принадлежали к числу добрых качеств Кеккины. Стараясь подражать знатным дамам в обхождении, она между тем сохранила всю доброту простой и бедной девушки, какой была прежде. Манеры ее, иногда довольно смешные, театральные, всегда, однако же, были очень учтивы. Ей весело было поважничать перед деревенской девушкой в атласной постели, обшитой кружевом, но она всячески старалась ободрить скромную крестьянку.
Вот что писала мне синьора Гримани:
Целых три дня вы не приходили! Или у вас недостает изобретательности в уме, или вам совсем не хочется видеть меня. Неужели я должна придумывать средства, как бы продолжать наши дружеские сношения? Если вы их не искали, то вы смешной человек; если же искали да не нашли, так вы сами то, чем меня почитали.
Я назначаю вам свидание: доказательство, что я не superba [18] , не stupida. Завтра, в восемь часов утра, я буду у обедни во Флоренции в церкви Santa Maria del Sasso. Тетушка больна; со мной поедет одна молочная сестра моя, Лила.
Если лакей или кучер вас заметят и станут расспрашивать, дайте им денег; они негодяи.
Прощайте, до завтра.
За несколько минут я написал ответ — обещал, клялся, благодарил, и отдал прекрасной Лиле самое напыщенное любовное письмецо. Но когда я хотел всунуть ей в руку золотую монету, она остановила меня взглядом, исполненным печали и чувства собственного достоинства. Всей душой преданная госпоже своей, она должна была исполнять ее прихоть, но ясно было, что совесть упрекает ее в этом, и предложить ей плату за услугу значило наказать ее и жестоко пристыдить. В эту минуту мне очень жаль было, что я поцеловал ее тогда, чтобы рассердить синьору Гримани. И теперь, стараясь загладить свою вину, я проводил Лилу до конца сада с такой же вежливостью и почтительностью, с какой провожал бы знатную даму.
Весь этот день я был в большом беспокойстве, и Кеккина это заметила.
— Послушай, Лелио, — сказала она, когда мы отужинали на прелестной террасе, убранной жасминами, — ты как будто не свой. Я вижу, что у тебя есть что-то на душе. Отчего же ты не хочешь открыть мне своей тайны? Разве я уже не стою твоей доверенности? Разве я когда-нибудь изменяла ей?
— Нет, любезная Кеккина, я отдаю полную справедливость твоей скромности. У меня, собственно, нет никаких тайн от тебя, но есть иные секреты…
— Знаю, что ты хочешь сказать, — вскричала она с живостью. — Есть иные секреты, которые принадлежат не одному тебе и потому ты не имеешь права располагать ими. Но если я сама их угадала, то я не знаю, право, к чему тебе запираться в том, что я не хуже тебя знаю. Полно секретничать, я тотчас поняла, зачем приходила эта девушка. Я заметила, что она всё держит руку в кармане, и она еще не успела поздороваться со мной, а я уже знала, что она принесла письмо. По скромному и печальному виду этой бедной Ириды (Кеккина очень любила мифологические сравнения, с тех пор как прочла Aminta di Tasso[19] и Adone del Guarini[20]) я догадалась, что тут кроется целый роман — какая-нибудь дама, которая боится света, или молоденькая девушка, которая рискует своим будущим замужеством. Бьюсь об заклад, что ты завел одну из тех интриг, которыми мужчины так гордятся, потому что они считаются трудными и требуют больших хлопот; а, правду тебе сказать, мне кажется, эти победы ничуть не труднее других и тоже приходят сами собой. Ты видишь, что я угадала!

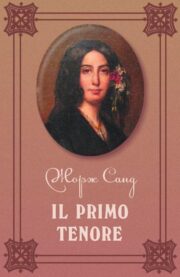
"Il primo tenore" отзывы
Отзывы читателей о книге "Il primo tenore". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Il primo tenore" друзьям в соцсетях.