От подобных мыслей радости не прибавится. Василю снова захотелось прыгнуть в реку, чтобы наплаваться до одури, то отупения. И не думать ни о чем. Вчера выдали водку по случаю скорого приезда барина. Василь выпил все, что досталось. И свою порцию, и Агашину. А потом пьяный и благостный завалился на сеновал. И ни одной горькой мысли!..
Зато сегодня…
Василь поднялся, лениво стряхивая с ляжек песок. Залез на полусгнившее бревнышко, служившее мостком. В воде отразилось его поджарое смуглое тело. Широкие плечи, узкие бедра, ноги длинные и ровные, как у греческих статуй в усадьбе. Отчаянно стесняясь самого себя, Василь стал рассматривать отражение. Красивый? Кто знает. Многие говорили об этом. Но, попробуй, разберись — может, врут. Он задумчиво повернулся одним боком, потом другим, поднял руки над головой… И тут на всю реку прозвенел насмешливый девичий голос:
— Эй, Вася-Василек! Плыви к нам! Промок, поди? Так мы тебя высушим!
Василь в два прыжка скрылся в кустах, ругая себя на чем свет стоит. Вслед ему неслись веселые вопли и хохот деревенских девчат.
Поспешно натягивая штаны, Василь в который раз недобро помянул весь женский род. Девки с утра ходили за грибами, и вместо того, чтобы прилежно исполнять урок, вышли на речку, отдохнуть. А он тут перед ними скачет, в чем мать родила.
— Вася-я! — он узнал голос самой острой на язычок девки в округе. Христя-песенница. С ней он несколько раз пел в церковном хоре. Она ему прохода не давала, задирая по всякому поводу.
— Вася! — кричала Христя на потеху подружкам, сложив ладошки перед губами. Звонкий голос весело летел над рекой. — В неделю у нас гулянье будет! Приходи, может, споемся!
— Да ну тебя! — огрызнулся Василь через плечо, забирая сапоги и на четвереньках поднимаясь по отлогому берегу. Весь отдых испортили зубоскалки.
— Швайн! — встретил его Немчин крепкой пощечиной. — Опять опоздаль! Почему не в костюме? Немедленно на сцену!
На сцене уже стояла Агаша в греческом одеянии и на котурнах. На лице ее застыла обычная испуганная маска. Она робко улыбнулась Василю и приняла позу.
Генрих Иванович взмахнул тростью, оркестр заиграл дуэт Париса и Елены. Начинала Елена, то есть, Агаша.
При первых же тактах она совершенно преобразилась. Куда девалась забитая крепостная девочка? Вместо нее на сцене мучилась от любви и совести царица.
— Не могу преступить долга, но умираю от страсти!.. — пела Агаша, протягивая к Парису руки. Глаза ее наполнились слезами, щеки раскраснелись. Василь в который раз невольно изумился ее актерскому таланту. За кулисами благоговейно замолчали. Даже дворовые, подметавшие дорожки возле веранды, остановились, раскрыв рот.
Немчина довольно качал головой в такт и прикрывал глаза белесыми ресницами. Лицо у него было довольное, как у кота, объевшегося сметаной — круглое, белобрысое, с редкими бачками на розовых висках.
Василю было плохо и противно. Он запел, но сразу почувствовал, что не вытянет. Генрих Иванович разразился проклятьями. После третьей попытки Василь получил очередную порцию пощечин и был с позором изгнан за кулисы. Навстречу ему попался Евлампий, изображавший Менелая. Берестяная корона то и дело сползала на затылок с лысой макушки. Он дружески ткнул Василя в плечо и подмигнул.
Василь сел прямо на пол и равнодушно следил за репетицией. Покойный барин любил оперу. Эта была его собственного сочинения и называлась «Прекрасная Елена». Василю музыка казалась слишком напыщенной, но его мнения никто не спрашивал.
Говорили, что вскоре должны были приехать именитые гости, поэтому репетировали целыми днями. Немчин похудел и осунулся, стараясь поспеть везде — ругал художников, готовивших декорации, плотников, строивших сцену, крепостных артистов. Он самолично следил, чтобы каждый певец выпивал в день не меньше трех сырых яиц, разболтанных с медом, для укрепления голоса.
Прошло несколько часов, и лица хористов покраснели и залоснились. Танцоры были в поту. Наконец, Немчин устал и сам. Обругав еще раз всю труппу, он отпустил крепостных артистов отдыхать.
Разговаривая между собой, актеры и актерки разбрелись по двору, некоторые зашли в людскую, но большинство расположились на завалинках, подставляя лица теплому июньскому солнышку, уже коснувшемуся краем леса. Василь не удивился, когда возле него оказалась Агаша.
— Ты не заболел? — прошептала она, смущаясь до слез. Плечики ее горбились, она теребила концы платочка, которым подвязалась после репетиции. Она всегда носила платочек. Беленький, чистенький. В его обрамлении личико девушки было похоже на горчичное зернышко. Но Василь не ощутил ничего, кроме раздражения.
— Нет, не заболел, хорошо себя чувствую, — ответил он, стараясь говорить приветливо.
— Если простыл, я тебе молока с медом сварю… — Агаша умоляюще вскинула на него глаза и тут же потупилась.
— Не надо, спасибо. Иди, отдыхай.
Он ускорил шаг, хотя сам не знал, куда пойти. Только бы подальше от нее. От ее собачьей преданности и обожания. Он не оглядывался, но знал, что Агаша смотрит вслед. Может, даже плачет. Глупая, сама виновата.
Василь зашел за амбар и присел на корточки, чувствуя огромное желание напиться, чтобы проклятые мысли вылетели из головы.
— Не жалко девку? — спросил Евлампий, который сидел здесь же на бревне и курил трубку. Немчин запрещал курить, но Евлампий ухитрялся спрятаться от его бдительного белесого ока.
Василь бешено посмотрел на старика, который с наслаждением затягивался, причмокивая и потирая лысину.
— Ух, как зыркнул! — Евлампий захихикал. Он был в прекрасном расположении духа. — Хорошая девка. Зря ты так. И по тебе сохнет…
— Вздор! — вспылил Василь, невольно краснея.
— Как же! — поддел Евлампий. — Все уж видят, как она поет-старается для тебя…
— Дурак ты! — сказал Василь, вскочил и пошел прочь.
За околицей он побрел к перелеску. В деревне дымились печки, долетал запах щей и рыбы. Василь брел без тропки, то и дело натыкаясь на стволы берез, как слепой. Слезы душили его, но плакать было стыдно, пусть никто и не видит. Заболела голова. Василь сжимал виски, но боль не проходила.
В это лето в июле ему должно было исполниться восемнадцать. Отец часто говорил, что в день восемнадцатилетия подарит ему весь мир. Вот и подарил.
Старуха из дома на окраине приняла у него медяк и вынесла склянку с настойкой. Василь спрятал ее под рубашку и пошел к любимому местечку на реке, на обрыв. Старуха была мастерица по части крепких напитков, и тайком ссужала бражкой, наливками и настойками сельских и крепостных. Василь не раз бегал к ней, чтобы забыться от дурных мыслей.
Привалившись спиной к стволу ивы, согнувшейся над самым омутом, Василь несколькими глотками опустошил бутылку. Настойка обожгла горло и желудок, и ледяная хватка, сжимавшая нутро, слегка ослабла. Хмель быстро ударил в голову, но отчаянье не проходило.
Василь посмотрел на темную реку под обрывом и подумал: утоплюсь. Воображенье живо нарисовало ему, как он прыгает в реку и плывет ко дну, сколь есть сил. Потом агония, потом забытье. Он подполз к краю, уцепился за ствол ивы и свесился вниз. В самом деле, упасть, что ли? Кто по нему плакать станет? Алевтина? Агашка? Христя-песенница? Да тьфу на их слезы.
В кустах зашуршало, и Василь увидел парня и девку, бредущих по тропинке. Они ни о чем не говорили, а просто шли рядышком, глядя под ноги. В руках у девушки было лукошко, прикрытое полотенцем. Наверное, несла что-нибудь в усадьбу, а парень побежал провожать. Парочка не заметила Василя, а он замер, провожая их взглядом и закусывая губу. Когда парень и девушка скрылись за поворотом, топиться расхотелось.
Василь встал на колени у ивы и зашептал:
— Господи, не оставь меня. Прости за страшные мысли и укрепи на этом пути. Пошли хоть кусочек Твоей милости. Пошли ангела в помощь, чтобы беды переносились легче. Пошли ангела во спасенье души.
Выпивка сделала свое дело. Голова отяжелела, мысли стали путаться. Василь с трудом дотащился до усадьбы, спрятался от сторожа, который топал в сторожку, а потом прокрался в потайное место — сеновал над коровником. Сюда мало кто лазал, потому что надо было переносить тяжелую лестницу через весь двор. Но у Василя была своя лестница, которую он стащил у мужиков-древорубов и прятал в траве.
Укрывшись на сеновале, он уснул в слезах, мысленно повторяя про себя: «Пошли ангела во спасенье… пошли мне ангела…».
Сквозь сон ему слышались крики, пение «Многая лета», хлопанье дверей. Василь перевернулся с боку на бок, но спать уже расхотелось. Голова немного гудела, хотя не так, как вчера. Василь подскочил и сделал несколько динамичных движений — английская традиция. Они с отцом этому в Лондоне научились. Заряжает бодростью на весь день.
Помахав руками и разогнав кровь, Василь скатился с сеновала и убежал к реке, радуясь, что никто не попался по дороге. Наплававшись, он стал прыгать по берегу, чтобы согреться.
За этим занятием его застал Якуб Гаврилыч, управляющий поместья.
— Васька! — крикнул он, перегнувшись через борт двуколки. — Хорош баловаться! Сбегай в Машенькино, скажи старосте тамошнему, чтобы всех плотников живо в усадьбу гнал! А я в Красное поехал!
— Так сейчас репетиция… — начал Василь, но управляющий замахал руками: — Какие репетиции?! Хозяйка приехала! Завтра Иваныч концерт дает, а декорации у него, вишь, еще не готовы! Давай, скорой ногой слетай, я один везде не успею!
Гораздо приятнее пробежать три версты лесом, чем получать от Немчины зуботычины. Поэтому Василь помчался исполнять приказ управляющего едва не с радостью. Пока добрался до деревни, пока нашел старосту и вернулся с плотниками — солнце перевалило за полдень.
Возле поместья Василь увидел карету с позолоченными вензелями на дверках. Конюхи смазывали колеса и проверяли спицы, таращась на богатый экипаж. Василь, не раз путешествовавший с отцом, сразу оценил все удобства транспорта. «Знатная, видать, барыня! — подумал он с усмешкой. — Не хочет старые кости в тарантайках тревожить». Дворня металась, как угорелая. Хозяйка не предупредила о приезде, и теперь крепостные спешно трясли перины, мели дворики и суетились в кухне.

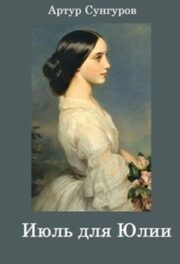
"Июль для Юлии (СИ)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Июль для Юлии (СИ)". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Июль для Юлии (СИ)" друзьям в соцсетях.