— Спасибо за кофе.
Он открывает дверь и уходит. Дилен всем телом тянется за ним.
— Так не пойдет, ребятки, — говорю я Дилену. — Вы с Джиной смешали свои гены, поэтому, думаю, к вам можно обращаться, как к семье.
Он еще глубже вдавливается в диван.
— Откуда ты знаешь, может, это не от Дилена? — спрашивает Джина, складывая руки на животе.
— Вот как? Так мне ожидать в гости кого-то еще? Может быть, хоть у него будут деньги, и вы все сможете переехать в отель «Ридженси»? Я слышала, у них там прекрасный сервис…
— Пошла ты! — опять говорит Джина.
Бурлит закипевшая кофеварка.
— Дилен, не нальешь нам кофе? — прошу я.
Дилен исчезает так быстро, что вызывает у меня головокружение и приступ тошноты.
Глядя вниз, на Джону, я чувствовала кружение в голове и в животе. Я подняла голову, и кружение прекратилось.
— Ты сможешь дотянуться до хвоста уже оттуда, где стоишь, — закричал он.
— Смогу, — ответила я, подтягиваясь и залезая на площадку.
— Чи-и-ита-а-а! Какого черта ты все это делаешь?
Внизу, в той стороне, где стоял Джона, лопасти ветряка радостно затрещали — как скворцы по весне, — и застонали, и зашлись в истерическом хохоте, как будто какую-то твердокаменную девчонку парень бросил как раз накануне самого главного бала года. Хохочущая грусть. Хохочущее одиночество.
Я не осмеливалась взглянуть вниз. Там, подо мной, скрипели и трещали прогнившие доски. А еще ниже досок что-то кричал Джонз… Я протянула руку к хвосту ветряка и потащила его к себе. Сначала его заклинило, но потом он пошел легко, чуть не сбив меня с ног, и я чуть не полетела — вниз, вниз, вниз.
Я порылась в кармане, ища баллончик с краской. Сдернула крышечку, и та свалилась. Полетела — вниз, вниз, вниз.
Джону снова вырвало.
Я взболтала баллончик. Доски трещали. Я начала писать, но потом случилось нечто, изменившее мои планы.
Крестовина, за которую я держалась, подломилась, и я, пролетев десять футов, приземлилась прямо на спину, у самых ног Джоны.
— Господи, Чита… — хлопнулся он на колени рядом со мной.
Я не отрываясь смотрела вверх, на ветряную мельницу, и пыталась втянуть в себя воздух, выбитый из легких при падении. Июньский ветерок змеился над горячей землей, закручивал травинки и вдруг привел в движение лопасти мельничных крыльев.
— Ты только посмотри, там мое имя, — сказала я Джонзу. — Теперь я останусь в веках!
Уичита Грей. Золотой краской.
— С тобой все в порядке? — спросил он, вместо того чтобы смотреть на мое имя.
— Все в порядке. Правда. — И я рассмеялась.
— Я думала, что мы и правда можем рассчитывать на тебя, — говорит Джина, складывая руки и плотно прижимая их к груди.
На кофейном столике сиротливо стоят три чашки с остывшим кофе. Вернее, две. А третью Дилен крутит пальцами. По часовой стрелке. Против часовой стрелки. Вокруг оси, туда-сюда. Мне страшно хочется сказать ему, чтобы он оставил эту чертову чашку в покое, но ведь ничего плохого он не делает.
— Рассчитывать на что? — наконец спрашиваю я у Джины. — На бесплатную комнату и еду?
— Мы прожили здесь всего два дня, — говорит она.
— Да неужели? — Я смотрю по сторонам — на кучи грязной одежды, на почти (но не совсем) пустые коробки из-под пиццы, на отброшенные в угол пустые банки из-под кока-колы.
Джина краснеет.
— Прости за беспорядок, — говорит Дилен. — Я сейчас все это уберу.
— Сиди, — говорю я ему. — Через минуту вы оба все это уберете.
У Джины дрожит нижняя губа. Сейчас она совсем как мама.
У мамы задрожала нижняя губа.
— Ты меня больше не любишь, — сказала она.
Отец опустил газету.
— Ради Бога, Мэгги! Неужели ты не видишь, что я читаю?
В центре стола стояли блины. По бутылке ползла капля сиропа, тяжелая, как слеза.
— Ешь свой завтрак, Уичита, — сказала мама. — Остынет.
Уже остыл.
Губа у Джины дрожит.
— Ты хочешь, чтобы я замерзла и умерла на улице?
К чести Дилена надо заметить, что он не говорит, что согреет ее. Он лишь неотрывно смотрит на меня. «Какое же она чудовище, если может выгнать сестру на улицу!» — написано на его лице.
— Я не собираюсь выбрасывать ее на улицу, — говорю я ему. — Не бойся. — Я смотрю на рот Джины. — Слушай, хватит дергать губой.
Губа перестает двигаться.
— Сегодня вы спите в моей кровати. Завтра ищете работу. Находите работу и ищете квартиру. — Если продолжать в том же тоне, то закончить предложение мне, наверное, надо так: «Усекли?» Такая вот я, Уичита Грей. Гангстер из банды Аль Капоне. Гангстерша. Как лучше?
— Но я же беременна, — тянет Джина.
Я саркастически смотрю на нее.
— Беременные женщины работают и живут в своих квартирах, — говорю я. — Знаю, тебе трудно поверить, но я видела это собственными глазами. А в прошлом году Дороти, одна женщина из нашего музея, родила близнецов прямо на работе, в кофейной комнате. Тебе бы на это посмотреть!
— И она завернула младенцев в пеленки и продолжала работать, таская их на спине? — подхватывает Джина, выдавая те капли юмора, на которые все же способна.
— Хоть иронию освоила, и то хорошо, — говорю я.
Она еще глубже засовывает руки себе под мышки.
— Я не буду спать на этой постели, — говорит она. — По крайней мере, пока тут эти простыни.
— Ладно, — говорю я. — Помоги их сменить.
Мы стягиваем простыни, и Джина видит на них кровь. Не много, но вполне заметно.
— Ого, — говорит она, наклоняясь пониже. — Чем же это вы с ним тут занимались? — Она снова поднимает на меня глаза. И не может не заметить, что лицо у меня красное.
— Ты что, раньше не…? — Она начинает смеяться. — Знаешь, что самое смешное? — спрашивает она, останавливаясь, чтобы отдышаться. — Мама ведь все время говорила мне, какой шлюхой ты была в моем возрасте.
А ветряную мельницу повалило бурей — в июле, сразу после того, как мы с Джоной уехали в Чикаго.
Глава 10
— Тебе совсем необязательно было это делать, — говорит Джонз.
Мои пальцы стискивают дверной косяк его кабинета.
После того как голубки отправились баиньки, я устроилась на диване, где и провела остаток ночи. Я даже не потрудилась притвориться, что сплю. Когда около половины шестого домой вернулась Индия, то перепугалась до полусмерти. А не спала я потому, что Дилен и Джина, скрывшись в моей комнате, оставили после себя обволакивающее ощущение настороженности и вины. И оно сидело во мне, как чудище под кроватью, истекающее слюной в ожидании момента, когда я закрою глаза. Когда можно будет вонзить в меня когти. Я закрыла глаза и увидела то, чего не видела никогда. Я увидела лицо Джоны в тот момент, когда Майк открыл окно. Поэтому глаза я больше не закрывала. И приход Индии был как луч восхода, проскользнувший ко мне под дверь и выгнавший чудище.
Но оно все-таки не сдохло.
В музее я даже не потрудилась остановиться возле кофейной комнаты. Не потрудилась я и снять с себя пальто.
Я пошла к Джоне.
И встала как вкопанная у дверного косяка, когда нашла его.
Измена любовнику — ничто по сравнению с изменой другу.
— Тебе совсем необязательно было это делать, — говорит он.
Под «этим» он подразумевает события прошедшей ночи.
Мои пальцы сжимают косяк.
Сегодня утром Кенни запоздал, и в зале нет людей и того шума, который люди производят, когда появляются на работе. Мы здесь одни. В полном одиночестве.
— Могла бы просто сказать мне.
Его руки лежат на подлокотниках скрипучего кресла. Старого, деревянного, с откидной спинкой. Мы спасли его от гибели в мусорном контейнере. Кто-то решил, что пользоваться им уже нельзя. А Джона подумал, что оно очень красивое. Шлифовальная шкурка. Состав для удаления краски. Лак. Мы скоблили и терли это чертово кресло по вечерам в течение недели, пока Джона наконец не посчитал, что мы его достаточно отчистили, чтобы покрывать лаком. А скрипеть оно не переставало никогда. Даже целая бутылка машинного масла не смогла заставить этого дряхлого мебельного старика прекратить выражать свой протест, и с каждым движением седока он судорожно скрипел, как от боли.
— Могла бы просто сказать мне, — говорит Джона. Говорит так тихо, что даже кресло не скрипит.
Я стискиваю косяк. Еще сильнее.
— Я не знаю, как мне говорить с тобой, — мямлю я, как бы извиняясь, все еще не отрывая глаз от его рук, лежащих на подлокотниках. — Я не знаю, как… говорить с тобой.
— Но мы же говорим, — возражает он, и губы у него подергиваются. — Мы просто не произносим слов.
— В этом-то все и дело, разве не так? — отвечаю я. — Если бы мы пользовались словами, я могла бы что-нибудь сказать. Но раз мы говорим без слов, то ты можешь просто не обращать внимания на то, что я пытаюсь тебе сказать.
Голова Джоны рывком поднимается, и кресло испускает протестующий вопль.
— Так это я во всем виноват? — спрашивает он. И он уже имеет в виду не Майка. Он имеет в виду нас. Ту дистанцию между нами, которая все увеличивается.
— Ты не слушал меня.
— А ты ничего не говорила.
— Нет, говорила.
— Ты была не в духе, сказала мне, что все прекрасно, сделала из меня посмешище, опять закурила, а потом ушла и оттрахала бармена. — Он фыркает. — Просто чудесно. Вот эти слова и в самом деле кое-что значат.
— Да неужели? Ты вот так просто сидишь, уставившись на меня, и хмуришь брови, и, не делая ничего, корчишь гримасы и притворяешься, что ничего плохого…
— Я не из тех, кто притворяется, что ничего плохого не происходит.

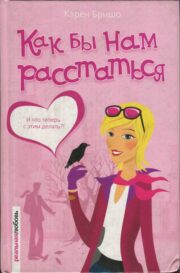
"Как бы нам расстаться" отзывы
Отзывы читателей о книге "Как бы нам расстаться". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Как бы нам расстаться" друзьям в соцсетях.