— Да. Что-то в этом роде.
— Как ты думаешь, Гансу нужен какой-нибудь божественный план? — спросила я. Ганс был метисом немецкой овчарки, который сменил лохматого и вечно блевавшего Шепа из нашего раннего школьного детства. У Ганса была отвратительная привычка кусать всех, кроме меня и Лиакосов, поэтому он не был нашим постоянным спутником в прогулках по городу, каким был старик Шеп, но тогда он лежал на кровати между нами и посмотрел на меня, когда я произнесла его имя.
Джонз не ответил: «Ганс ведь только собака». Он не сказал ни одной из тех глупостей, которые обычно говорил пастор из маминой церкви, когда кто-то из детей спрашивал, попадают ли собаки в рай. Пастор всегда отсылал домой плачущего ребенка, которому отвечал, что у собак нет души, и поэтому, когда они умирают, они просто перестают существовать. Что это не так, как с людьми, у которых душа есть и которые после смерти живут с Иисусом. Если только они не были плохими. Тогда они попадают к дьяволу. И все в том же роде. Ничего такого Джонз не сказал. Он просто посмотрел на Ганса.
— Не знаю, нужен ли ему план или у него он просто есть. Я хочу сказать, как так вышло, что он оказался здесь? — спросил он.
— Мне кажется, он сюда запрыгнул, — ответила я.
Джонз посмотрел на меня долгим взглядом.
— Я не шучу, — сказала я. — Мне кажется, он принял решение запрыгнуть к нам, поэтому он и здесь.
Ганс перевел взгляд с меня на Джону, а потом обратно. Помахал хвостом.
— Вот видишь? Он соглашается со мной, — сказала я, показывая своей банкой с колой на собачий хвост.
— Значит, ты думаешь, что все равно, почему мы здесь. Мы все равно должны сами принимать решения?
— Да, — сказала я. — Вот только к хорошему или к плохому это приведет?
Я удалила Джону из своей жизни не для того, чтобы сделать ему больно. И не потому, что хотела, чтобы мне вырезали сердце. Я просто хотела посмотреть, смогу ли я существовать без него.
Я сама приняла это решение, не зная, приведет это к хорошему или к плохому. Живи я в совершенном мире, я, наверное, была бы только рада принимать самостоятельные решения…
Я тушу сигарету, придавив ее каблуком, и по привычке хороню окурок в мульче среди маминых роз. Если бы можно было сделать археологический срез слоев земли на глубину одиннадцати лет, то там обнаружились бы сотни окурков, оставшихся от сигарет, выкуренных мною потихоньку летними вечерами на этих самых ступеньках. Встав, я сквозь дверь проскальзываю назад и плотно заворачиваюсь в одеяло, раскопанное в недрах чулана в зале еще до того, как я попыталась разложить диван. Я даже не даю себе труда раздеться, прежде чем рухнуть на этот самый диван. Утро в Хоуве наступает рано. А к утру меня здесь уже не будет.
Когда внутренние часы пробуждают меня от беспокойного сна, скорее даже ночного кошмара, еще темно. Наверное, можно назвать ночным кошмаром курящих собак, дающих мне напрокат машину… Просто путаница из сумасшедших образов.
Вещи я упаковала еще вечером, сразу после ужина, хотя глагол «упаковала» чересчур солиден, потому что на самом деле я из сумки и не вытаскивала ничего, кроме зубной щетки и пары носков. Я складываю одеяло, натягиваю туфли и в неясной мути зимнего рассвета проскальзываю на кухню.
И останавливаюсь.
Вы когда-нибудь слышали о чувстве, что вы не одни в каком-то месте? Вы идете домой поздно ночью, ваши каблуки цокают по тротуару, и внезапно где-то на затылке появляется ощущение, что за спиной кто-то есть… Так вот, в кухне кто-то был. Кто-то сидел в темном пятне за маленьким столиком у окна. Мое все же не полностью удаленное сердце начинает колотиться о ребра, и я пытаюсь разобрать, кто или что это там сидит. «Всегда смотри на контур того, что ты хочешь разглядеть», — не раз говорил мне Джонз. Так. Темное в темноте чуть пошевелилось.
— Мама? — произносит тихий голосок, который я узнала только потому, что когда-то слышала его изо рта одной маленькой девочки.
— Джина? — спрашиваю я, включая свет и жмурясь. — Это я, Уичита.
— Мне нехорошо, — говорит Джина, и голос у нее все тот же, как у совсем маленькой девочки.
Я смотрю на дверь, выходящую на задний двор. Она манит, предлагает выйти отсюда на дорогу, ведущую к свободе. Так, значит, Джина подцепила грипп. «Ну, и что, ты-то здесь при чем?» — спрашивает меня зовущая к себе дверь.
Я перевожу глаза обратно на Джину. Она положила голову на сложенные на столе руки. Она такая бледная… По-настоящему пугающе бледная.
И тут я вижу кровь.
— Господи! — говорю я, потому что ничего другого мне в голову не приходит.
— Наверное, мне бы понравилось, — сказал Джонз. — Знать, что все решения были только моими, пусть даже они и оказались совершенно неверными.
Я пожала плечами, и позаимствованное у Джоны полотенце сползло с моей головы и мокрой кучей упало на хвост Гансу. Ганс взглянул на меня с укором.
— А я думала, что ты не веришь в разных там богов и в гороскопы, — сказала я Джоне, похлопывая Ганса и прося у него прощения.
— Я и не верю.
— Тогда с чего бы твоим решениям быть не твоими?
Он посмотрел на меня и задержал взгляд на секунду. На две. Я бы знала, о чем он думает, если бы мысли в его глазах не были так перепутаны.
— Потому что я боюсь, — сказал он наконец, — что мне придется повторять все ошибки моих родителей.
Я нахмурилась:
— Полный бред.
— Джина! — трясу я сестру за плечо. На ощупь она холодная.
Господи ты Боже мой! Что же происходит?
— Мама! — ору я, надеясь, что мой голос взлетит по лестнице наверх и прорвется сквозь маленькую машинку, звуки которой позволяют маме заглушить храп, свисты и стоны, по милости отца наполняющие наш дом по ночам. Наверху, над головой, что-то валится на пол. Как будто тело упало с кровати. — Мама, — зову я опять, — помоги, мама!
Я ищу раны. Это что, самоубийство? Но запястья Джины гладкие и белые. Значит, кровь идет из…
Ах, черт!
— Уичита? — кричит мама сверху вниз. — Это ты?
— Да. Я на кухне. — Я тянусь к телефону.
Мама спускается как раз в тот момент, когда оператор службы «911» берет трубку.
— Боже милостивый! — говорит мама, падая на колени перед Джиной.
— Нужна немедленная медицинская помощь, — говорю я в ответ на вопрос оператора. Адрес? И я начинаю диктовать свой чикагский адрес. Нет, минутку. Мейпл-стрит. Буду ли я здесь, когда приедет «скорая»? Да, черт подери. Я ее сестра. В любом случае кто-то здесь будет.
Мои знакомые, которым доводилось попадать в чрезвычайные ситуации, говорили мне, что в такие моменты время растягивается. Должно быть, я белая ворона, потому что передо мной все события того утра проносятся как при ускоренной перемотке видеопленки. Люди говорят, а головы у них дергаются из стороны в сторону, и рты двигаются слишком быстро. И всем приходится по два раза повторять мне сказанное: повторять эпизод с нормальной скоростью, чтобы я сумела понять, что происходит.
— Это выкидыш. Она не приходит в сознание, — говорит мне мама уже во второй раз, пока мы сидим в зале ожидания отделения «скорой помощи» в центральной больнице Хоува. Я прошу ее повторить, хотя догадалась, что случилось, еще тогда, когда звонила в службу спасения.
— Откуда ты знаешь? — спрашиваю я.
Мама смотрит вниз, на линолеум пола. Он белый в голубую крапинку.
— Это же ясно.
Ясно что? Я тоже смотрю на пол. Наискосок от меня на стуле ерзает отец. Эти стулья нарочно делают такими неудобными, чтобы в них надолго оставались только те, кто уже истекает кровью или впал в кому. А другие бы вставали и уходили, решив, что воспаление легких или сломанная рука причиняют им все же меньше мучений, чем сидение на этих стульях в ожидании приема врача.
Я кидаю взгляд на камеру слежения, нацеленную прямо на меня. Где-то наверху, возможно, в комнате отдыха, там, куда подает изображение эта камера, врачи, наверное, наблюдают, как больные ерзают и корчатся на этих стульях. Бьюсь об заклад, что это так. А расхожая шутка у них, наверное, такая: «Этот лох еще не сдох?» А может, они делают ставки у букмекера в этой своей комнате отдыха: «Вон, та деваха, на третьем стуле. Спорим, она не протянет больше полутора часов?»
Отец опять меняет положение. Скрещивает ноги. Снова вытягивает их. Я перевожу взгляд с его ботинок на лицо. Он смотрит на маму. Уголок рта у него дергается, меняя улыбку на угрюмую ухмылку, а потом на совсем уж хмурое выражение. Он ловит на себе мой взгляд и встает. Это движение такое быстрое, что я упираюсь глазами в пряжку его ремня, и я не вижу, что делается в уголке его рта, когда он говорит:
— Ну, я, наверное, пойду. Надо работать. Кто-то же должен оплачивать счета за все это.
— Сегодня суббота, Брэд, — говорит мама. Очень спокойно говорит.
Идущая на центральный пост сестра останавливается и смотрит отцу в лицо. Она стоит между мамой и отцом, а иначе, наверное, мама бросилась бы на него, как не подвластная времени кошка Люси на ничего не подозревающего кардинала…
— Работы полно, — отвечает отец. — И на субботу хватает. Позвони, когда будут новости.
И он уходит. Но я все же успеваю заметить спрятавшийся в подергивающемся уголке рта негасимый огонь раздражения и злобы. Это не из-за боязни, что на него может накинуться мама. Это из-за страха перед чем-то еще. Перед больницами, например. В больнице я видела его всего два раза: когда родилась Джина и когда умерла бабушка. Нет, правда, я не знаю, боится он больниц или нет. Может быть, он просто такой бесхребетный…
— В следующий раз, — сказала бабушка, — выбирай мужчину, у которого хребет потверже. Или сама такого воспитай.
Я потрясенно уставилась на нее.

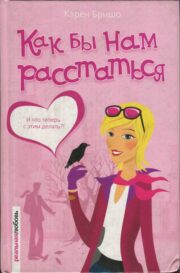
"Как бы нам расстаться" отзывы
Отзывы читателей о книге "Как бы нам расстаться". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Как бы нам расстаться" друзьям в соцсетях.