Бабушка — мамина мама — страдала от болезни Альцгеймера. Мы не знали, что это так, до тех пор, пока мне не исполнилось десять лет. До этого мама считала, что бабушка нарочно все забывает, чтобы разрушить ее, мамину, жизнь. В то время все хотели разрушить мамину жизнь. От продовольственного магазина, где кончилось печенье, до почтового отделения, нарочно приносившего письма, адресованные папе, на Мейпл-вуд-драйв вместо Мейпл-стрит…
Всегда все сводилось к папе.
Десять лет — это в промежутке между тем возрастом, когда мама прочла мне лекцию о сексе, и временем, когда я пошла на свое первое свидание с Неряхой Джефом. В эти несколько коротких лет я была ничем, фикцией. Слишком маленькой, чтобы попасть в действительно трудное положение. И слишком большой, чтобы за мной постоянно присматривать. И каждую неделю воскресным вечером мы с мамой отправлялись к бабушке.
«Бабушкин дом» на самом деле был квартирой в корпусе для людей, нуждающихся в уходе, находившемся на южной окраине города. «Домашний уют» там мог бы составить конкуренцию разве что уюту тюремных камер. Бабушка не всегда жила там. У меня сохранились смутные воспоминания о маленьком домике, окруженном деревьями и пропахшем старыми тканями и мылом для деревянных кухонных столов. И менее смутные — о флакончиках из голубого, зеленого, желтого и красного стекла, стоявших на подоконнике. Мне нравилось, как они играли разными цветами, когда в окно заглядывало солнце. Возможно, эти воспоминания остались от бабушкиного дома, но у меня не хватало смелости спросить маму, похоже это на что-то реальное или это воспоминания о сне.
Я никогда не видела этих ярких разноцветных флакончиков в бабушкиной квартире. А пахло в ней рвотой и освежителем воздуха для туалетов с запахом убойной силы. Таким, какие стоят в сортирах придорожных забегаловок для шоферов-дальнобойщиков…
— Привет, мам, — всегда говорила мама и целовала бабушку в щеку.
А бабушка не отрывала глаз от телевизора.
Я дергала маму за руку:
— Можно мне пойти поиграть в комнату отдыха?
В комнате отдыха был бильярд. Мне нравилось катать шарики вперед-назад, закидывать их в сеточки. А однажды я попробовала даже играть кием. Но он содрал кусок дерна с зеленого поля стола. Испугавшись, что меня накажут (или еще хуже — запретят появляться в комнате отдыха), я оставила кий на столе и побежала обратно в квартирку бабушки. Но никто так и не обнаружил содранный кусочек сукна. И я больше не боялась катать шары, но кием при этом никогда не пользовалась.
— Скажи бабушке «здравствуй», — произнесла мама вместо того, чтобы ответить на мой вопрос.
— Привет, бабушка.
Бабушка посмотрела на меня и сказала:
— Мать у тебя слабая, а отец трус. Жаль мне тебя, девочка! — Потом она улыбнулась: — Как ты, малышка?
Все это напоминало разговор не с родным человеком, а скорее с медиумом на спиритическом сеансе. Правды ровно столько, чтобы было во что поверить.
— Отлично, — ответила я.
— В следующий раз, — сказала бабушка, — выбирай человека, у которого хребет потверже. Или сама воспитай.
Я удивленно уставилась на нее.
— Нет, не ты, — продолжала она, выгнув шею, чтобы посмотреть на меня. Потом она взглянула на маму: — Ты мне что-нибудь принесла?
В машине на обратном пути я спросила маму, что имела в виду бабушка, когда говорила о «хребте потверже».
Но мама мне не ответила.
Не сводя глаз со стула, опустевшего после ухода отца, я вспомнила, что сказала тогда бабушка, и подумала, об отце ли она говорила.
— Отец боится больниц? — спрашиваю я маму.
Она ведет себя так, как будто не слышит меня. Так, будто этот линолеум — самый замечательный линолеум, который она когда-либо видела. Я уже собираюсь повторить свой вопрос, но между нами садится та сестра, благодаря которой в самый напряженный момент отец остался цел и невредим.
— Мэгги, — говорит эта сестра, — я не видела тебя целую вечность. Как живешь?
«Даже не знаю, что и сказать. Вот, мы тут сидим, а врачи делают на нас ставки в тотализаторе». Я слышу, как мои зубы щелкают, когда я прикусываю себе язык, чтобы не дать этим словам выскочить изо рта, работающего в ускоренном режиме.
Но вообще-то сестра не за этим пришла.
Мама переносит свое внимание с линолеума на сестру. Она не двигается, как бы силясь узнать это нагловатое лицо под белой шапочкой.
— Прямо как в старые времена, да? — говорит сестра, похлопывая маму по колену. — С ней все будет в порядке. Все обошлось.
И, несмотря на то, что я пребываю в искривленном временном поле, я все же успеваю заметить нехороший блеск в голубых глазах этой сестры.
Прямо как в старые времена, да?
— Уичита, — говорит мне мама, все еще глядя в поблескивающие глаза медсестры. — Сходи позвони Дилену.
Глава 17
Дилен.
Время ускоряется, потом замедляется, оставляя у меня ощущение тошноты.
Как же я могла забыть о Дилене?
Я почти дохожу до таксофона, когда вспоминаю, что не знаю номера Дилена и даже его фамилии. Я поворачиваю назад. Сестра уже ушла, а мама плачет.
Я видела, как мама плачет — по любому более или менее подходящему поводу.
Обычно в этих случаях я старалась выйти из комнаты. Я не люблю, когда люди манипулируют другими.
— Ты меня не любишь, — сказала однажды мама, когда все мы сидели за ужином.
— Бога ради, Мэгги! — ответил отец. — Я ведь только попросил пюре.
Две слезы покатились по маминым щекам. Я прекратила жевать свою морковную палочку и следила, как эти две слезы соревнуются между собой, которая быстрее добежит до подбородка. Две мокрые скаковые лошади, галопом несущиеся к финишной черте.
Момент был напряженный. Слезы подбежали к самому краю маминого подбородка, соединились там, повисли и упали. Их место заняли другие. И все это в тишине. В мертвой тишине.
Отец шлепнул себе на тарелку ложку картофельного пюре. Одну полную ложку, вторую, третью… До тех пор, пока влажная кучка не стала свешиваться через край тарелки.
— Послушай, — сказал он, делая все возможное, чтобы его слова прозвучали, как шутка. — Я ведь ем твое пюре. Значит, я тебя люблю. Ну, все? Перестань плакать.
Но капли на маминых щеках все продолжали обгонять друг друга.
Отец бросил свою ложку:
— Ну что такое? Что я на этот раз сделал не так?
— Ты меня не любишь. Если бы ты любил меня, ты был бы счастлив.
— Я счастлив! — он буквально выплюнул эти слова.
Морковная палочка было горькой и сухой. Я не могла проглотить кусок, поэтому наклонилась и выплюнула его в салфетку.
— У нас ведь ребенок, — сказала мама. — Ты должен быть счастлив.
— Я счастлив, — сказал отец, глубоко вздыхая. — Ну когда же ты перестанешь реветь?
Но мамины слезы уже прекратили свой бег. Она победила.
Мама плачет. И я не знаю, что мне делать с этими слезами.
В этот раз они льются из-за реального горя.
Садясь, я не сразу решаюсь, но потом делаю попытку и обнимаю ее за плечи.
Она сбрасывает мою руку.
— Уходи.
Я убираю руку.
— Да уходи же!
Несмотря на это, я говорю, очень мягко:
— Мне нужен номер Дилена. Иначе я не смогу ему позвонить. Мне нужен номер его телефона. Или хотя бы его фамилия.
— Томас, — отвечает она, все еще не глядя на меня. — А его отца зовут Ричард… или Рик, или что-то в этом роде.
Я отправляюсь было обратно к телефону, но…
— Мам, — спрашиваю я, стоя перед ней, — он Дилен Томас? Ты уверена?
Она зло смотрит на меня красными глазами:
— Что ты имеешь в виду?
— Его отец — тот поэт?
Некоторое замешательство.
— Какой «тот»?
— Нет, ладно, ничего, — говорю я.
— Сегодня суббота. Дилен где-то убирает снег. Наверное, в восточной части города. Вы новый или старый клиент?
— Снег? — спрашиваю я.
— Его навалило с фут. Разве вы не видели?
— Я… сестра… Джины… его девушки, — говорю я. — У Джины… Она в больнице. — Я не уверена, что родители Дилена знают о Джине. И о ее беременности. Разговаривая, я про себя отмечаю, что трясогузка перехитрила койота[13]. Вопит ребенок. Женщина, с которой я беседую — по голосу она слишком молода, чтобы быть матерью Дилена, — что-то говорит ребенку. Потом мне: — Джина заболела?
— М-м-м, да.
— А ребенок? С ребенком все в порядке?
— А вы знаете о ребенке? — спрашиваю я.
— Конечно, я знаю о ребенке. Это же будет мой первый внук. Почему же я не должна о нем знать?
Значит, не такая уж она молодая.
И ничего общего с моей матерью.
— У Джины выкидыш, — говорю я, стараясь, чтобы голос звучал помягче, пусть даже слова довольно жесткие.
— Благодатная Мария, матерь Божия, — говорит мать Дилена. — Мы сейчас же приедем.
— Как так получилось, что у меня нет ни теть, ни дядь? — спросила я маму как-то вечером, помогая ей пересаживать рассаду петуний из плоских лотков в ящики на окнах, выходящих на улицу. Может быть, это произошло после одного из наших еженедельных визитов к бабушке… Кажется, это было весенним днем, как раз в тот период, когда мне было между девятью и двенадцатью (Джина тогда еще не родилась). В те самые неопределенные годы…
— Это потому, что у бабушки не было других детей, — сказала мама, садовым совком делая в земле дырки.
— А у папы тоже нет братьев и сестер?
— Нет.
Я ткнула в ямку петуниевую затычку.
— Не так, — сказала мама. — Криво. Посади ее, чтобы она была прямой и высокой, так, чтобы она видела солнце.
Я пересадила петунию.

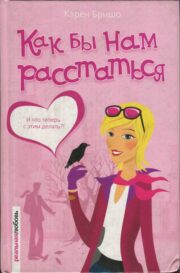
"Как бы нам расстаться" отзывы
Отзывы читателей о книге "Как бы нам расстаться". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Как бы нам расстаться" друзьям в соцсетях.