Глава 19
Отец сжимает мне плечо. Я поворачиваюсь и почти скатываюсь с диванчика. Жмурясь на солнечный свет, пролезший в щель между занавесками, я вижу, что отец уже побрился.
— Пойду схожу в церковь, — говорит он.
Я смотрю на его футболку с надписью «Почта» (по случаю зимы — с длинными рукавами) и ботинки — гибрид туфель для гольфа и обычной обуви.
— Я не знала, что она у тебя приняла духовный сан, — говорю я.
Отец хмурится. И спустя минуту я слышу, как хлопает дверь черного хода. Шума мотора не слышно, значит, он пошел пешком. Я представляю, как он идет по переулку, который так хорошо знает, проходит мимо мертвых зимой деревьев по краям тротуаров, мимо повизгивающего пуделя на углу. Идет и идет, шлепая по снегу галошами. Идет, чтобы встретиться с Долорес, как и сотни раз до того.
Я поворачиваюсь и утыкаюсь лицом в угол между спинкой и сиденьем диванчика и не обращаю внимания на улыбчивый солнечный лучик, покалывающий мне глаз.
И я вижу во сне, что кто-то прикрепил лампу у меня над головой. Теперь может настать озарение.
Вспышка.
Момент, когда — как в мультфильме — вы складываете два и два и получаете четыре вместо трех.
Как-то летом — в те годы, когда я была ничем, и которые так или иначе все сливаются в один долгий год — в течение двух или трех недель мама пыталась сделать из меня, шатающейся по всему городу с «этим мальчишкой», девочку, с которой дружат другие девочки, красивые, как куколки Барби. А где еще найти таких подружек, если не в летнем лагере для девочек? Думаю, у нее в голове были образы хорошеньких, благовоспитанных и ухоженных девочек, нанизывающих на нитки бусинки, насыпающих в бутылочки разноцветный песок или занимающихся каким-то видом спорта, например: идущих в поход по горам или учащихся гребле на каноэ — конечно же, в спасательных жилетах, надежно закрепленных ремнями.
Возможность проведения ночных соревнований, когда все обитательницы летнего домика пукают как можно громче, ей, вероятно, даже в голову не приходила.
Первой в моем мозгу отчетливо вспыхивает мучная война того периода, когда в моей жизни появилась коробка из-под сигар. Мучная война — это обычное лагерное развлечение. Счастливых маленьких обитательниц лагеря, каждой из которых вручалось по несколько пакетов с мукой, разделяли на две команды, и они должны были пробежать через лес, играя в нечто, лишь немногим менее дикое, чем додж-бол. Выигрывала та команда, которая рассыплет меньше других муки.
Стоя в очереди за пакетами с мукой, мы толкались и пихались. Вожатая, давшая мне три маленьких кулька, наклонилась и сказала:
— Следи, чтобы мука не попала в глаза, иначе ты ослепнешь.
Я посмотрела вниз, на пакеты в своей руке. Наверное, нельзя быть более жестокими садистами, чем те взрослые, что придумали эту игру. В ней сильных и спортивных девочек натравливали на более слабых, к тому же если мука попадет в глаза, результат будет просто ужасен! Я не хотела ослепнуть. Мне нравилось, что я могу видеть.
Выбросив свои пакеты в кусты, я основную часть времени трусливо просидела за деревом. И когда Энни — известная среди более слабых как Мышца — обнаружила меня там, я прикрыла глаза ладонями и завопила: «Только не в лицо, только не в лицо». Энни удивилась, но ее стремление выиграть было таким неукротимым, что она ударила пакетом по дереву. Мука просыпалась мне на плечи, но в глаза не попала.
Поскольку в лагерь я больше не ездила — как-то за ужином я пукнула, чтобы показать, как я выиграла соответствующее соревнование после лагерного ужина с перцем чили, — то и о муке я больше не думала. Но однажды, месяц или два тому назад (правда!) я делала печенье, чтобы взять на работу, где мы должны были отмечать день рождения Кенни. Прядь волос попала мне в глаза. Я подняла испачканную мукой руку и, убрав волосы, потерла глаз испачканным в муке пальцем. В сухой, колющей, отвратительной муке, из-за которой нельзя открыть глаза, пока не пройдет острая боль. И я поняла, что имела в виду лагерная вожатая.
Вспышка.
Момент, когда — как в мультфильме — вы складываете два и два и получаете четыре вместо трех.
Денег на страховом полисе отца хватило только на одни сутки пребывания в больнице. И после полудня Джину вышвырнули из палаты. В воскресенье, никак не позже.
Проведя пять ночей в позе эмбриона, я уже привыкла и даже полюбила сворачиваться калачиком. Я все еще сплю на диванчике, когда на кухне хлопает дверь черного хода.
— …Всю эту кашу, так что это для твоей же пользы, — говорит мама и этими словами резко будит меня. Я шарю глазами по потолку, силясь понять, где нахожусь.
— Да пошла ты… — отвечает Джина. Голос у нее до предела утомленный, высокий и страшно злой.
— Не смейте говорить со мной таким тоном, юная леди, — говорит ей мама. — Вам только шестнадцать лет. И вы находитесь в моем доме. И если я говорю, что вам с ним встречаться нельзя, это значит, что вам с ним встречаться нельзя. И, пока вы живете в этом доме, вам придется слушаться.
— Папа! — кричит Джина. — Папа, ты дома?
Лежа на диванчике, я замечаю в мамином голосе кое-что, чего раньше не замечала. Такие внушения я слышала много раз. За ними обычно следовало обращение к отцу и яростный спор между ним и мамой, в котором мама неизменно терпела поражение, потому что ее коронным аргументом было «Потому, что я так говорю!», на что отец смеялся, ерошил волосы дочери — той или другой — и говорил: «Ладно, иди». И на этом все кончалось и становилось как раньше. За исключением того, что в тлеющий огонь негодования и обид добавлялось еще горячей золы, и в один прекрасный день пламя взметалось вверх, и дверь хлопала за вашей спиной, и вы сбегали в Чикаго.
Но сегодня, лежа на этой кушетке, не видя маминого лица и зная, что ее нотация обращена не ко мне, я слышу в ее голосе нечто, чего раньше не замечала.
Страх.
Снова вспышка.
Все крики из моих воспоминаний собираются под вспыхнувшей, как в мультфильме, лампочкой, и соединяются. Я знаю, что мама…
Мама боится.
Не знаю чего. Может быть, того, что ее дочери шатаются всюду с этими мальчишками, которые им совсем не пара и о которых даже говорить не хочется. Может быть, того, что дочери могут поставить ее в неловкое положение. Может быть, того, что дочери могут оставить ее одну с отцом. Потому что что еще удержит их вместе, если уедем мы обе — и Джина, и я?
Ни один из этих вариантов на сто процентов не подходит.
Но я помню отчаяние в ее голосе каждый раз, когда она говорила о Джонзе, ее слезы, попытки манипулировать нами, даже это правило «никакого кофеина после пяти часов вечера»… Все для того, чтобы привязать нас к себе и не допустить вторжения в свой мирок. Только вот привязать нас не так-то легко.
Она и отца-то привязать не может, а он связан «священными узами брака».
Мама и Джина расходятся по комнатам, где вымещают свое недовольство на подушках, и в доме, кажется, хлопают все двери сразу. Я не знаю, что мне делать, поэтому выбираю самое простое и иду делать кофе (пока еще нет пяти часов) и ужин.
Я шинкую морковь для овощного супа, когда вдруг решаю позвонить Майку. Он занят в Клубе, ожидая, когда ленивая воскресная толпа гостей начнет постепенно стягиваться к нему, посмотрев по телевизору сегодняшнюю спортивную программу. По голосу слышно, что он рад моему звонку.
— Я думал, ты меня избегаешь, — говорит он. Разговор с ним для меня — как солнечный свет и свежий воздух, потому что он — голос из моей теперешней жизни. Или, по крайней мере, той жизни, которой я жила всего несколько дней назад.
— Проигрывал «Сторожевую башню?» — поддразниваю я его.
— Немного. А где ты была все это время?
— В одном городе под названием Глубокая Задница, штат Иллинойс.
— Хм. Кажется, я бывал там.
Мы оба смеемся.
В безотчетном порыве я рассказываю ему о своих вспышках. О страхе, звучащем в мамином голосе. Не могу не рассказать и о мучных войнах, и о том, что я выяснила относительно муки…
Он смеется.
— Захватывающая история.
В оконном стекле отражается мой наморщенный лоб.
— Зря ты смеешься. Это важно, — говорю я, не переставая одним глазом следить за дверью, ведущей в остальную часть дома. Мне совсем не хочется, чтобы мама застала меня за психоанализом ее личности, да еще в ее доме, по ее телефону.
— Ну что же. Хорошо, что ты все это поняла, — говорит Майк.
Я делаю отчаянную попытку. Пытаюсь выжать из себя улыбку.
«Улыбка на лице, — произносит мамин голос у меня в голове, — и на душе радостнее».
— Правда? — спрашиваю я. Воплощенная легкость и жизнерадостность.
— Забегай, когда опять будешь в Чикаго, — говорит Майк. — Может быть, тогда и та кофейная лавка будет открыта.
— Хорошо. Береги себя.
Я кладу трубку на телефонный аппарат, висящий на стене рядом с холодильником.
Это случилось сразу же после того, как мы с Тимоти поласкали друг друга между ног. Очень быстро наступило раскаяние («О чем я только думала?!»), и я выскочила из музея, вероятно, установив рекорд скорости. Иначе говоря, я сбежала. И, летя по нашему переулку, даже не заметила, что идет снег. Набухшие, сросшиеся в хлопья снежинки. Совершенно необычные для Чикаго в январе, когда воздух слишком холодный для того, чтобы шел настоящий снег, и с неба не падает ничего, кроме ледяных иголочек, а тот снег, что все же лег на асфальт, превращается в замерзший песок.
Я не замечала, что идет снег, пока не добежала до подъезда своего дома — не того, где я живу сейчас, а другого. Тогда я снимала квартиру на пару с любительницей округлых форм. Округлые стулья, округлые столики и даже округлая кровать чрезмерной величины. Уверена, что чрезмерной, потому, что сама помогала тащить ее целых пять лестничных пролетов.

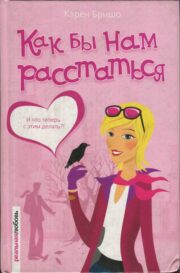
"Как бы нам расстаться" отзывы
Отзывы читателей о книге "Как бы нам расстаться". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Как бы нам расстаться" друзьям в соцсетях.