– Выбора все равно нет, – пожал плечами Василий. – Коли не понравятся, поменяем в пути.
– Как скажешь, княже.
Холопы скинули седла, упряжь, отвели лошадей к яслям. Поднялись на гульбище. Копуша тут же наклонился к куякам, принюхался:
– Вроде как не пахнет! Зухра молодец, золотые руки. Все вычистила! – Он сгреб обе брони, ушел в комнату и принялся укладывать в мешок.
– Возьми новую сумку. – Пестун бросил седла в углу. – Старые воняют.
– Это верно, – согласился хромой дядька. – Надо было тоже постирать.
– Кожаные, сморщатся.
– Да плевать! Это же мешки, а не сапоги или куртка. Как покоробятся, так и растянутся. Набьем мокрые сеном до упора да бросим сохнуть.
– Сено не удержит, стянутся.
– Так и леший с ним. Ну, станут чуток меньше… Невелика беда!
– Копуша, – вслед за холопами в комнату вошла невольница, – я знаю, у тебя есть ремешки для плетения. Ты не мог бы дать мне один?
– Ага… – Дядька открыл поясную сумку, вытянул сыромятную полоску в половину пальца толщиной и отдал девушке. После чего вернулся к делу.
Спустя примерно час, когда они сели к столу, на лбу прячущей улыбку Зухры блеснул драгоценный шрингар[12]: золотой овал длиною около вершка, украшенный закрепленными вплотную друг к другу густо-алым яхонтом и небесно-синим астероидом. Холопы без труда узнали в нем княжескую фибулу: заколку от оставшегося в далеком Сарае плаща, ныне закрепленную через волосы тонким сыромятным ремешком.
Копуша и Пестун понимающе переглянулись и опустили головы, пряча снисходительные усмешки.
– На рассвете выезжаем, княже? – спросил старший из воспитателей.
– Да, – подтвердил Василий. – Сперва на Решт, а оттуда к Зеджану и далее к Урмии. От нее до Царьграда должен идти добротный торный тракт.
Путешествие через османские земли оказалось на удивление размеренным и спокойным. Низкорослые степные лошадки легко проходили за день по двадцать верст, после чего странники останавливались на ближайшем постоялом дворе, кушали и отдыхали – а на рассвете снова поднимались в седло. По прошествии пяти дней князь со свитой останавливались уже на две ночевки, дабы принять баню и постираться, – а затем снова отправлялись в дорогу. И самыми страшным бедами, каковые случились с путниками в могучей южной державе, стали грозы и затяжные дожди, из-за которых странники несколько раз застревали в очередном дворе на неделю-другую, пережидая непогоду.
В бескрайних садах, тянущихся возле дорог насколько хватало глаз, постепенно вызрели сочные плоды, потяжелели виноградные грозди, налились соком персики, возвещая о наступающей осени. Однако погода продолжала стоять очень жаркой – хотя и не столь убийственно знойной, как ранее. А вслед за осенью незаметно подкралась зима, каковая в здешних краях оказалась такой же мягкой, как русская ранняя осень, и скачке по дорогам ничуть не мешала.
Хотя теплые душегрейки странникам пришлось все-таки прикупить.
К середине зимы наследник русского престола со свитой наконец-то добрался до знаменитого Боспорского пролива между турецким и греческим берегами. Каковой, понятно, в столь теплую погоду не замерз – и его пришлось преодолевать на огромной широкой галере с ровной палубой, вмещающей на себе пятнадцать стоящих по трое в ряд возков или целый табун лошадей.
Великий Царьград княжича Василия одновременно и изумил, и восхитил, и разочаровал.
Со стороны суши, откуда они подъехали к городу после переправы, перед путниками возвышалась гигантская твердыня из трех стоящих друг за другом каменных стен, причем каждая последующая почти на пять саженей превышала предыдущую. Многие десятки башен, глубокие рвы… Невероятно могучая крепость почти в полную версту длиной!!!
Крепость, на стенах и башнях которой тут и там росли кустарники, березки и ольха, на швах между валунами зеленела трава, а подъемный мост врос в землю и, похоже, был даже закреплен на обеих сторонах рва железными стяжками для пущей твердости.
Город раз в двадцать превышал размерами Москву и примерно втрое – Сарай. Но только – размерами. Путников встретили пустынные улицы, тихие дворы. Пыль, бурьян и запустение. Тут и там стояли дома с провалившимися крышами. Если бы захотели – могли бы с легкостью занять для себя обширный двор: их, заброшенных, здесь стояло преизрядно.
Правда, тогда им самим пришлось бы заботиться о сене, воде и пище.
Более-менее активная жизнь продолжалась только в самом центре великого города: вокруг храма Софии и соседних церквей. Здесь еще работали лавки, здесь шумели постоялые дворы, здесь многие ремесленники с готовностью чинили паломникам из разных земель обувь и одежду, повозки и упряжь, отливали свечи, вытачивали кресты, чеканили кубки, миски и кувшины.
Увы, но и паломники, решившие отправиться в дальний путь, дабы собственными глазами увидеть легендарный Царьград и главный храм христианского мира,тоже не собирались здесь особо большими толпами. Счет им шел на десятки, может статься, на сотни – но уж никак не на тысячи. И потому великий храм Софии, когда наследник московского престола со свитой вошел в его гулкую залу, показался гостям из святой Руси совершенно пустым и заброшенным.
Собор поражал, изумлял, даже пугал размерами! Внутри него легко поместились бы все церкви Москвы вместе с куполами и звонницами – и еще осталось бы место для языческих капищ. Святилище было наполнено светом благодаря множеству слюдяных окон, колоннады вдоль стен поддерживали высокие широкие гульбища, всюду лежал мрамор, со стен смотрели лики святых и бежали библейские изречения. И вместе с тем – пол из неровно лежащих, растрескавшихся каменных плит выглядел обшарпанным и грязным, стены закоптились и стали настолько сальными, что жир можно было сковыривать со стен ногтем. Образа святых местами осыпались вместе со штукатуркой, колонны стояли щербатые и исцарапанные. Светильники тут были деревянные, церковная посуда – медная, образа – в оловянных окладах. Величайший храм подлунного мира явственно пах нищетой и полным запустением[13].
– Проклятый черный Карачун! – сквозь зубы пробормотал Василий, медленно двигаясь вперед и поворачиваясь округ. – Что сие есть за дикое позорище? Как сие такое может быть?!
К нему подошел молодой служка в длинной, явно с чужого плеча рясе, с деревянной копилкой на груди, кашлянул, чуть поклонился:
– Величие сего храма и красота его нуждается в твоем участии, сын мой, и требует твоего благочестия. Внеси лепту свою посильную на ремонт церкви, и мы станем молиться за спасение…
Паренек в овчинной душегрейке, продолжая смотреть по сторонам, опустил ладонь служке на плечо, с силой сжал, подержал немного, а затем вперил в юношу в рясе, в самые его зрачки, холодный злобный взгляд:
– Главного своего сюда позови! – и с силой толкнул попрошайку: – Бегом!
– Чего такое случилось-то? – отступив на пару шагов, недовольно потер плечо служка.
– С тобою княжич московский разговаривает, дурында! – слегка прихрамывая, приблизился к попрошайке один из спутников паренька, одетый в обычный стеганый полотняный халат, однако опоясанный ремнем с двумя внушительными ножами. – Быстро исполняй, чего велено!
Служка, недовольно буркнув что-то себе под нос, отошел к дальнему пределу, там пошептался со священниками, и к странному гостю заторопились сразу трое упитанных церковных служителей, уже успевших обзавестись бородками и большими нагрудными крестами.
– Нехорошо здесь ссоры затевать, сын мой! – начал один, рыжебородый, голубоглазый и с большим розовым рыхлым носом. – Это храм божий, здесь люди молятся, душу спасают, о вере истинной размышляют, а не шумят попусту!
– Угрожать служителю божьему есть грех большой, – поддержал его другой попик, седобородый, однако с моложавым светлым лицом.
– А уж силу применять… – начал было третий, но наследник московского престола решительно перебил всех троих:
– Мой отец присылает на содержание сего великого православного храма две тысячи золотых рублей в год! Две тысячи! А здесь даже пыль по углам не убрана! Где же тогда наши постоянные посылки? Куда вы их тратите?! Кто их крадет?
– Нет, ну… – Все трое разом запнулись, и дальше попытался оправдаться только рыжебородый: – Так ведь собор-то какой огромный! Тут таковые деньги…
– На две тысячи рублей его весь три раза в год перекрасить заново можно, а у вас даже стены не отмыты! – холодно отрезал княжич. – Да вы тут еще и побираться ходите! На что? Я хочу знать, куда уходят русские деньги?!
– Нехорошо, наверное, во храме священников так честить? – негромко произнес Копуша и опустил ладонь на рукоять косаря. – Как бы чего не вышло…
– Ничто, – так же тихо ответил Пестун. – Зато видно, как кость-то княжеская крепость набирает, волю показывает. Пока с уроков-то бегал да крестовые службы на зайцев променивал, сие вовсе незаметно было. А за злато отцовское, вон, спрос твердо требует.
– Так цену деньгам ныне знает, – пожал плечами хромой дядька. – Месяц назад серебро отцовское кончилось, княжичу пришлось гривну свою с шеи снять и два перстня на расходы путевые отдать. А тут, вона, две тысячи рублей псу под хвост.
Холопы перешептывались, невольница крутила головой, восхищаясь остатками былого византийского величия, Василий же продолжал устраивать священникам выволочку:
– За порядком никто не следит! Служки попрошайничают! Пред ликами столов нет, алтарь не покрыт. И это есть главный храм Христовой веры?! Я скажу отцу, чтобы он больше не давал сюда ни копейки!
– Мы искренне, мы истово молимся за благополучие земли русской, за здоровье семьи княжеской, за спасение его души… – пытались объясниться священники.
– За спасение своих душ мы и сами прекрасно помолиться можем! – оскалился паренек. – А деньги московские присылаемы на храм, на главную святыню христианскую!
– Но молитва первосвященников греческих, избранных, станет для бога более значимой…

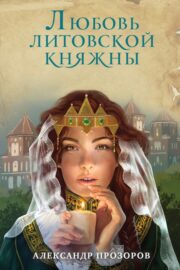
"Любовь литовской княжны" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовь литовской княжны". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовь литовской княжны" друзьям в соцсетях.