Их союз был сейчас более тесным, чем при любовном слиянии.
Тело Соледад стало тяжелым, неровным. Если бы это была какая-то новая женщина, Н. испытал бы известную неловкость мужчины, которому хотелось, но уже не хочется. Но женщина была своей, своей настолько, что тело уже почти не имеет значения. Она была его женщиной, потому что он был ее мужчиной.
Если он мог бы выманить металл наружу и принять в свое тело, он бы сделал это.
Струны сделались тоньше, узелки расплющились, и края их размывались потихоньку, но все получалось страшно медленно. Н. чувствовал, что борьба с металлом может оказаться длиною в жизнь. А времени-то оставалось час, не более.
Он осознал и опасность – тело Соледад стало мягким и готовым принять любые перемены. Но если прекратить работу, частицы металла, уносимые кровью, замрут и поплывут вспять. А она не сможет этому воспротивиться – она в полудреме и даже не знает, что с ней происходит.
Время, проклятое время прикоснулось к нему и заставило о себе думать. А чтобы помочь Соледад, следовало забыть о минутах, часах и даже сутках. Очнувшись, он накрыл ее всем, что нашел в каморке теплого, навалил поверх простыни и подоткнул. Ему казалось, что, если тело сохранит тепло, частицы металла будут странствовать с той же скоростью, ни за что не цепляясь и никуда не сворачивая. Потом он зажег свет и быстро оделся в свои кавалерские доспехи – белые чулки, узкие штаны по колено, белую рубаху, парчовый камзол, голубой кафтан из легкой и ломкой, наподобие тафты, ткани. Он повязал кружево на шею, стянул длинные волосы в хвост и скрепил его заколкой с черным бархатным бантом. Когда он вышел в гостиную, как раз пробило четыре – время начала кавалерского дежурства.
Он чувствовал себя так, словно его пропустили через центрифугу. Поэтому он достал из секретера початую бутылку и отхлебнул прямо из горла.
Время остановилось. Сидя у нарядного столика, он пробовал читать Фонвизина и ничего в старинном плетении словес не понимал.
К счастью, заглянул хозяин музея – так что время, отнятое у Соледад, было не совсем потерянным. Хозяин прибежал лечиться от неприятностей и приник к секретеру. Что-то у него стряслось такое, что выражаться он мог только матерно. Н. принес закуску из своих запасов – ожидая Соледад, он прикупил и сыра, и колбасы. Теперь он уже знал, почем они в супермаркете и почем на рынке.
Хозяин, выпив не меньше бутылки дорогого виски, велел ему отключить телефон и пошел спать в спальню восемнадцатого века, где стояла кровать под балдахином и лежал на кресле шлафрок в старинном вкусе, – как будто Фонвизин где-то поблизости, сейчас придет, переоденется и сядет к столику – творить.
Н. был сильно озадачен – что же теперь, так и сторожить его у дверей спальни в дворянском прикиде? На часах было почти семь – срок его ежедневной службы подходил к концу. Н. решил, что раньше полуночи хозяин не проснется, и пошел в свою каморку, на ходу расстегивая парчовый камзол.
Соледад заснула, и это было хорошо – во сне организм сам себя лечит. Когда дурные мысли не провоцируют всех этих загадочных подкожных процессов, – возможно, металл даже сам потихоньку рассасывается. Так подумал Н. и начал с самого начала – с пальцев ног.
Оказалось, что и во сне Соледад помнила о своих неведомых неприятностях.
Н. разделся по пояс и взялся за дело.
Ему было не до секса. Если бы кто-то подсказал ему сейчас, что с лежащей женщиной можно соединиться, как муж с женой, он бы отмахнулся – не до того. Та сила, которая побуждает мужчину к телесной любви, вся ушла в пальцы. Но ее, сдается, было мало – Н., дойдя до бедер, понял, что ему не управиться со струнами, руки всего две, а струны, оплетая лоно, разошлись от него веером, пока проследишь ход одной – и утро настанет, и частицы стали, далеко не уходя, нарастут на соседние струны.
Прежде всего нужно было спасти Соледад.
Он провел рукой по ее колену – колено стало прежним, аристократическим, узким. Потом он глубоко вздохнул и доверился своим чутким пальцам.
Но тяжкий груз, видать, несла Соледад, чем-то была сильно недовольна – каким-то обстоятельством, против которого оказалась бессильна. Она, сама того не зная и не желая, сопротивлялась рукам целителя, и он уж не знал, что делать, но вдруг вспомнил девочку из «Драконьей крови», в которой металлические чешуйки возникли от уныния, уныние же – оттого, что ее не любили.
У Соледад было не уныние, что-то иное мучало ее, еще не став ее сутью, но собравшись стать. Н. не понимал, что бы это такое могло быть, и продолжал свой труд – в других случаях успешный, сейчас же почти бесполезный. Выше бедер он подняться не мог.
А что он вообще мог сделать, не понимая ни природы своего ремесла, ни природы стальных струн в теле Соледад?
Усталость долго боролась с ним и наконец стала одолевать. Все, что было ему доступно, он перепробовал – оставалось смириться. Но смириться он не мог – он любил эту женщину, он ее любил, и два воображаемых венца были над ними, висели и не гасли.
– Я люблю тебя… – прошептал он. – Я люблю тебя…
Это было последнее, что он мог сделать. А слова произнес впервые. Она должна была услышать и понять, что он ее не бросит.
Слышала ли Соледад – неизвестно, она не шелохнулась. Но что-то в ней отозвалось, что-то ждало этих слов. Может, душа, утратившая способность сопротивляться болезни. Может, сердце с торчащей в нем железной зазубренной занозкой.
– Я люблю тебя, – беззвучно повторял он, чувствуя, что силы возвращаются. И руки вновь опустились на кожу, нашаривая колючие бугорки узлов, прослеживая струны.
Металл, очевидно, обладал слухом и страсть как не любил этих простых слов. Струнки таяли, таяла и ночь.
Тело Соледад медленно преображалось.
Н. встряхнул уставшие руки – и с них посыпался, зависая в воздухе, беловатый порошок. Повисел – и опустился на пол.
Глава тринадцатая
В странном состоянии возвращалась Соледад домой.
Такое с ней бывало несколько раз в ранней юности, после невиннейших свиданий с красивым мальчиком, общим любимцем. Она земли под ногами не чуяла и однажды перескочила на бегу такую ямищу, что на следующий день, оценив ее размеры, ужаснулась.
Новое ремесло Н. порядком ее насмешило, когда на следующий день после ночного массажа она сидела в изящном кресле, завтракала на дорогом фарфоре и слушала все байки своего друга о чудаках-посетителях.
Она провела в фонвизинской квартире три дня и умчалась, ничего не объясняя, – да он и не спрашивал. Он просто сказал, что запомнил ее слова, и, взбираясь со ступеньки на ступеньку, сделает так, что ей не придется за него краснеть.
Она согласилась – да, он здорово продвинулся вверх. И было несколько мгновений, когда она поверила: как-то так все образуется, что они останутся вместе и будут долго-долго жить красивыми и молодыми.
Занозка в сердце, не дававшая жить мирно, успокоилась – словно ее и не было. А когда Соледад о ней вспомнила, то проснулся рассудок и сказал примерно следующее:
– Ты, голубушка, не шило на мыло меняешь, а очень даже наоборот. Вместо тусовочного гения, любимца небольшой компании, проникновенно исполняющего песенки про пиратов, сорокалетнего бородатого младенца, умудрившегося до этих лет дожить без позвоночника, ты получаешь красивого тридцатилетнего парня, имеющего неплохую перспективу, – главное, чтобы не расслаблялся. Ну да ведь ты ему и не позволишь. И в постели он, кстати говоря, гораздо лучше. И то, что он с тобой делает, никто другой сделать не сможет, никакой врач и никакой китайский шарлатан. Так что придави свое самолюбие тяжелым камушком и скажи спасибо женщине, которая тоже повелась на гитарные штучки и запустила в твоего барда коготки. Пусть она с ним по гроб дней нянчится!
Так оно и было.
– Погоди, – сказала Соледад своему рассудку, – ты делаешь вид, будто поменять одного мужчину на другого – все равно что поменять облезлую кроличью шубку на новую норковую. А как же быть с полетом, с замиранием и расцветом души? Тогда был полет – меня несло, как птицу, подхваченную ураганом. И от голоса я замирала, и от взгляда расцветала. Мне опять было шестнадцать лет. А теперь – авантюра, окно в рабочем графике, разве нет? Правда, авантюра оказалась лучше, чем я рассчитывала, но отношения с этим белокурым бездельником – вне любви, по крайней мере вне моей любви…
Рассудок тут же нашел уязвимую точку.
– Ты думаешь, что любила мужчину только потому, что вы очень скоро, пока не исчез азарт первых взглядов и прикосновений, оказались в постели и у партнера твоего была борода. А любила ты ребенка – он ведь был для тебя ребенком, которого водят за ручку. Причем он застрял в том счастливом возрасте, когда дитя, забыв про мамку, охотно пойдет на ручки к любой красивой тете, догадавшейся показать большую конфету. Когда ты родишь ребенка и немного с ним освоишься…
– Нет! – возразила она. Рожать ребенка от Н. – это показалось ей вселенским недоразумением.
– А что с тобой происходит сейчас? – осведомился рассудок. – Ты ведь, кажется, в полете?
– Потому что он избавил меня от тяжести. Уж рассудок-то должен это понимать. И не все ли равно, как он это сделал? Я вовсе не хочу, чтобы мой рассудок анализировал это. Есть какие-то приемы массажа, может китайские, – теперь вся альтернативная медицина китайская. Он сделал то, что умеет делать, я ему благодарна… и мне с ним хорошо… мне с ним хорошо…
– А теперь надо жить дальше?
– Я ему ничего не обещала, да…
Соледад действительно ничего не обещала, но мысль о сожительстве с Н. сейчас не казалась ей нелепой. Потому-то она и вступила в полемику с рассудком. Зимой, когда Н. сделал ей предложение, а она поставила условие, и мысли бы такой не возникло – она была убеждена, что его попытки наладить жизнь обречены на полный крах.
Маша встретила ее шумно и радостно.
– Класс! Высший класс! Слушай, надо этого твоего чудика сюда позвать. Может, он и меня приведет в порядок? А я его материально не обижу.

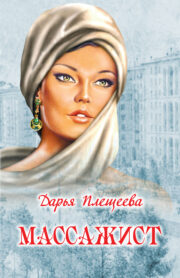
"Массажист" отзывы
Отзывы читателей о книге "Массажист". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Массажист" друзьям в соцсетях.