На дачу они приехали ближе к вечеру. Ясно было, что там и заночуют.
Погода малость выправилась, ветер утих, потеплело настолько, что Сэнсей достал из шкафа старые шорты и бросил Н., сам тоже переоделся. Им нужно было перетаскать в машину бабкины заготовки. Старуха все еще варила варенье в классическом медном тазу, переводя горы сахара и клубники, потом это варенье никто не ел, его всю весну раздаривали знакомым. Бабка была убеждена, что именно так лучше всего сохраняются витамины. Кроме того, она припасала кое-что полезное – огурцы с помидорами, замечательную закусь, яблочный сок, сок черной аронии, прекрасно понижающий давление.
Сэнсей вынес во двор два деревянных меча и два шеста-бо. Тут уж глаза отвел Н. Он знал этот сценарий. Ничего плохого в игре вроде бы не было – двое мужчин, одному тридцать, другому тридцать пять, валяют дурака, вообразив себя самураями. Но Сэнсей нуждался в драке не только для того, чтобы избавиться от дурного настроения.
Он был крепкий мужик, этот Сэнсей, если посмотреть: мощное и подвижное тело, хотя уже с животиком, тело – моложе лица, сильнее и выразительнее лица, тело большой обезьяны, ловкой и упрямой. Руки у него были замечательные – округлые, налитые, властные, умные, и не одна женщина глядела на них с явным интересом, когда Сэнсей закатывал рукава белого халатика. Впрочем, легкое возбуждение от действий мужчины-массажиста – дело обычное.
Такие тела, как у Сэнсея, хороши без одежды, а одежда, как нарочно, подчеркивает кривоватые ноги, косолапые ступни. К тому же одежда у мужчины обычно – декорация для лица, лицо же было простецкое, круглое, то при бороде, то бритое – Сэнсей никак не мог определиться. Лысина тоже его не украшала – есть лицо, которым она как будто и ума прибавляет, но Сэнсею ума как раз хватало, ему до боли не хватало шевелюры, пусть даже не такой золотистой гривы, как у Н., пусть просто темно-русой, гладенько зачесанной назад.
Сэнсей орудовал деревянным мечом лихо – Н. только успевал парировать удары. Они и познакомились-то у ролевиков, куда Сэнсея заманили изображать гнома, а Н. подрядился быть эльфом в свите эльфийской принцессы. Сэнсею выдали страшную кольчугу из толстой веревки и бороду, Н. получил зеленые лосины, коротенький камзол и берет с пером. Одевшись, он вышел к девочкам и получил две минуты восторженного визга: эльф натуральный! В двадцать пять он имел свежую мордочку семнадцатилетнего. В тридцать, впрочем, тоже не сильно постарел.
Наконец Сэнсей загнал Н. в угол. Это был настоящий угол, где сходились два забора, высокий дощатый, серый и мохнатый от времени, и штакетник, выкрашенный два года назад зеленой краской. Как и полагается, вдоль них росла высокая крапива, но было и кое-что получше – рябиновый куст. Этот куст Н. приметил уже давно: он каждый год вывешивал особенно крупные грозди ягод изумительного цвета – не оранжевого, как многие рябины низкого пошиба, а истинно рябинового, который ни с чем не спутаешь.
Н. остановился у куста, подняв меч и левую руку. Он признал свое поражение. Сэнсей же опустил меч и глядел на Н., словно оценивая эстетическую сторону капитуляции: тусклая зелень веток и насыщенный тон ягод, белокурая с золотом шевелюра, тонкое бледное лицо (глаза посажены слишком глубоко, нос чуть длиннее классического и островат, но цветовой гаммы это не портит), белая кожа противника, не тронутая загаром, шорты защитного цвета…
Сэнсей ощутил ту самую презрительную жалость, на которой не раз ловил себя. И какая еще была бы возможна по отношению к человеку, не умеющему защищаться? Сам Сэнсей сейчас считал себя бойцом, причем бойцом настоящим, по праву рождения, потомком длинной цепочки неутомимых победителей.
Он был победителем, Н. – побежденным. А к своему побежденному можно даже нежность проявить.
Н. не мог бы объяснить словами, что происходит в голове и в душе Сэнсея, хотя на бессловесном уровне все прекрасно понял. Давний вечер, когда было выпито ровно столько, чтобы проснулось дурное любопытство, до сих пор высовывался иногда из смутного пласта под названием «прошлое» и подсказывал…
Решительное «нет» ничего бы не изменило в их отношениях – они остались бы приятелями, и только. Вся беда была в том, что Н. не умел говорить «нет». Точно так же, как не умел мыть за собой посуду: знал, что это необходимо, а собраться с духом не мог.
Впрочем, он и «да» не сказал.
Точно так же, как он позволил Соледад взять себя и увести, он сейчас даже не ответил Сэнсею хотя бы нахмуренным взглядом – то есть вообще никак не возразил. А вся беда была в том, что он ощущал внезапную жалость, которая парализовала его. Он видел, что Соледад колобродит от бабьего отчаяния и непременно хочет показать всему миру, как она справилась с ситуацией и вдруг стала счастливой. Он видел также, что Сэнсею плохо, а другого утешения он себе не представляет – не водку же пить до полного выпадения из реальности, в самом деле.
А тут еще рябина во всей своей осенней женской красе…
Н. стоял под этой самой рябиной и все яснее понимал: связал его черт с Сэнсеем одной веревочкой, нехорошей какой-то веревочкой, идти на поводу у Сэнсея нельзя, а возразить ему невозможно. Ибо не в первый уж раз создают они оба это пространство утешения, в котором Сэнсей, наверно, осуществляет торжественную месть своей капризной подруге – месть, о которой она никогда не узнает.
– Да, так вот, – сказал Сэнсей. – Я тебе еще не все про семинар рассказал. Жаль, что ты не видел этого японца…
У Сэнсея были деньги, чтобы ходить на семинары по восточной медицине и получать сертификаты – запрессованные в пластик грамоты, дававшие ему право зарабатывать немалые деньги. Н., даже переняв у Сэнсея приемы и ухватки, такого права не имел. В самом начале их дружбы Сэнсей ругался, посылал Н. хотя бы на курсы медсестер, чтобы заработать простенький диплом о самом примитивном медицинском образовании. С таким дипломом можно двигаться дальше. Но у Н. голова была как-то странно устроена – тупые обязательные сведения в ней не застревали. Да и какова роль головы в деле, осуществляемой руками? Весь ум массажиста во время сеанса помещается в кончиках пальцев, а помимо сеанса он спит.
Н. и Сэнсей пошли на кухню – там следовало упаковать кастрюли со сковородками и все мало-мальски ценное, потому что бомжи, зимой вскрывавшие дачи, могли унести даже кружку с отбитой ручкой. Сэнсей за чаем много чего наговорил про японца, потом сам помыл посуду. Н. все понимал и покорно ждал, чтобы его уложили на широкую продавленную тахту и стали на нем показывать все японские ухватки – до определенного момента… и руки уже проснулись…
Все так и вышло.
А потом было прохладное утро – они забыли закрыть окно, и на рассвете в комнате сделалось зябко. Н. встал, подошел, взялся за створку – и остался у того окна, глядя на соседский сад.
Обычно, когда они валяли дурака во дворе, он сада не видел, а только дощатый забор. Теперь же, оказавшись повыше, он обнаружил, что там растут яблони, и по неизвестной причине яблони эти сохранили свои плоды. Яблоки не опали и не были убраны, а остались на ветвях – и большие светлые, и маленькие краснобокие.
Натянув джинсы, надев куртку, Н. вышел на веранду, спустился во двор – и опять забор скрыл от него наливное богатство сада. Одна лишь ветка, перевесившись, поманила его десятком яблок, и Н. пошел было к ней, но остановился.
Яблоки были чужие, хоть оказались на территории Сэнсеевой дачи, но все равно чужие. Взять их он не мог. Пальцы бы не сомкнулись на прохладных яблочных боках, а пальцам своим он доверял и умел слушать их подсказки.
Н. мог взять лишь то, что ему давали добровольно.
А здесь звучал безмолвный запрет.
Опять же не в яблоках было дело. У Сэнсея и свои яблони росли, на кухне стояла большая миска – бери не хочу. Сад тянул к себе Н. – особенно сейчас, став незримым.
Огромный пустой сад – как будто люди в нем не появлялись, сад, от которого веяло вечностью, – словно яблоки созрели в первые часы сотворения земного мира и опадут в последние часы. Стоя во дворе перед забором, Н. видел внутренним зрением стройные ряды красивых яблонь, их великолепные кроны с нереальным количеством безупречных плодов и вдруг заметил шевеление меж ветвей. Что-то золотое промелькнуло и растаяло.
Желая разглядеть загадку, он невольно привстал на цыпочки, вытянулся, подавшись вперед и сохраняя равновесие, доступное лишь танцовщицам. Ветви сдвинулись немного вниз, и Н. увидел большого золотого кота в развилке ветвей. Кот лежал царственно, свесив лапы, глядя внимательно и спокойно, как подобает хозяину.
Эта сентиментальная картинка потекла вниз, кот исчез, и теперь уж Н. видел сад так, как если бы забрался на крышу Сэнсеевой дачи. Вдали стоял дом, в котором, похоже, жили люди – синие ставни его были распахнуты, оконные стекла чисты. Но других признаков их присутствия Н. не обнаружил.
Где-то когда-то он уже видел такой сад, не во сне, наяву, и даже не однажды, но где – вспомнить не мог. Сад и дом, в нем стоящий, появлялись и исчезали с пути, словно кто-то говорил: и не мечтай, а вот тебе твоя дорога…
У Н. никогда не было дома. Квартира, в которой одиноко жила мать, домом не считалась. Он потому и ушел оттуда, что не мог жить в тех стенах, под тем потолком. Смолоду и сдуру он решил, что его домом станет дорога. Не мог он любить кирпичи и бетонные блоки, разве что деревянный сруб ему бы понравился, но не сам по себе. Дорога растянулась на десять лет. Выходит, он просто не знал, что дом должен стоять в саду, составляя с ним нечто неразделимое. Вернее, дом должен быть рожден садом – как в это утро.
Устав вглядываться, Н. позволил картинке подняться вверх, дом скрылся за яблонями, Н. снова увидел кота, а потом – край серого забора.
Оставалось только опуститься на пятки.
Если бы это было во сне, Н. перелетел бы через забор в сад. Но это было наяву – и он знал, что такой полет невозможен, невозможен не сам по себе, а запрещен. Запрет допускал прикосновение взгляда, но не тела, охранял и ту изобильную ветку, и даже дырку от сучка в досках забора, которой можно было бы, приникнув, коснуться ресницами.

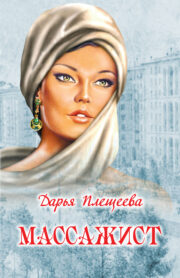
"Массажист" отзывы
Отзывы читателей о книге "Массажист". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Массажист" друзьям в соцсетях.