— Тебе следует научиться держать язык за зубами, дочь моя, — бросил аббат Бернар, враждебность которого ничуть не уменьшилась. — Где это видано, чтобы женщина высказывала вслух свое мнение? Ей сие не подобает.
— Как раз мне это подобает, господин мой аббат. — Нет, я не смолчу, коль на меня так грубо нападают. — Меня приучили иметь собственное мнение и не страшиться высказывать его вслух. И так я буду поступать и впредь. Господин мой король против этого не возражает. Так отчего же возражаете вы?
Как и следовало предполагать, это заявление отнюдь не заставило моего злоязычного противника умолкнуть.
— Тогда я стану проповедовать средь этого нечестивого двора, что позволительно, а что нет в очах Господа нашего!
Этим он и занялся, и каждая фраза была отточена, словно острие кинжала, направленного на то, чтобы разнести в клочья каждую черточку моей внешности.
Юбки («..добродетельный человек решил бы, что это не женщина, а ядовитая змея, ибо за нею по грязи влачится длинный хвост…»), вышитую кайму и рукава («…беличьи шкурки и труды шелковичных червей истрачены на то, чтобы одеть женщину, коей надлежит удовольствоваться простым полотном…»), румяна и притирания, которыми охотно пользуется всякая уважающая себя женщина («…трижды проклята искусственная красота, наводимая поутру и смываемая на ночь…»).
Вот каково было строгое суждение высокопреподобного Бернара. Голос его дрожал от праведного гнева, аналой содрогался от ударов кулака, а я сидела, выпрямившись, ничем не выражая своих чувств в ответ на его злобу. Как посмел он осуждать дочь Аквитании? Я ни за что не склонила бы головы перед аббатом Клерво — однако я ни на минуту не забывала, что рядом сидит Людовик и заворожено внимает каждому его слову. Лицо у короля было таким просветленным, словно эта речь исходила непосредственно из уст Божьих.
Вот это было опасно. В ту минуту я поняла, что нажила себе непримиримого врага. Аббат Сюжер стал бы подрывать мое положение тонко, хитрыми извилистыми путями. Аделаида была злобной, как мегера, она готова была разорвать меня своими острыми зубами, но настоящего влияния при дворе она не имела. А вот Бернар Клервоский — это вполне реальная опасность. Рядом ведь был Людовик, жадно ловивший каждое сказанное им слово. Нет, я не могла позволить себе недооценивать Бернара Клервоского. Он никогда не будет мне другом. А если Людовик станет так к нему прислушиваться, он сможет причинить мне немало вреда.
Но вскоре, охваченная радостным волнением, я позабыла о Бернаре: впервые мне удалось вырваться с острова Сите. В городе Бурже на Рождество меня короновали королевой Франции. В большом кафедральном соборе на пышной церемонии, направляемой твердой рукой прозорливого аббата Сюжера, Людовик и я были официально провозглашены королем и королевой Франции. Несмотря на то, что Людовика короновали еще при жизни его отца, аббат счел отнюдь не лишним напомнить закаленным в битвах и не ведающим стыда вассалам франкского королевства о том, что Людовик стал ныне их законным повелителем. Я не отрываясь смотрела, как на его голову возлагают корону.
Людовик опасливо вздрогнул, словно боялся, что корона свалится с его головы.
Я вздохнула.
Ну почему он не подготовлен как следует к тому положению, которое теперь занимает? Отчего совсем не походит на мужчин моей семьи — уверенных в себе, с горделивой осанкой, излучающих властность каждой клеточкой тела? Он выглядел скорее мальчишкой, чем мужчиной, пусть и красовался на его светлых волосах золотой венец, усыпанный самоцветами. Зачем он суетится? Отчего не метнет грозный взгляд на всех этих сеньоров, у которых нюх на любую слабинку сюзерена? Итак, Людовик получил корону вместе с Божьим благословением. Почему же так нервно сжимал он рукоять церемониального меча?
Страсти Господни! Уж я-то сумею сыграть свою роль куда убедительнее, чем Людовик.
Меня тоже короновали. Я была так этим захвачена, что кровь быстрее заструилась в моих жилах. Слишком молодая, слишком неопытная, я тогда искренне верила в то, что эти исполненные таинства символы: корона, миро, святая вода — хоть что-нибудь да значат. Разве может быть такое, что они не принесут мне счастья и довольства? В те дни сердце мое было полно надежды, а Людовик старался изо всех сил, чтобы пребывание в Бурже запомнилось мне навсегда.
Клянусь Пресвятой Девой, оно мне запомнилось!
Чтобы произвести впечатление на меня, а заодно и на своих вассалов, Людовик заказал настоящий шедевр. В разгар коронационного пира четверо слуг еле-еле внесли с кухни гигантский поднос, на котором красовалось искусное творение, достойное даже моих мастеров-кулинаров.
— Я приказал сделать это ради вас, — просиял улыбкой Людовик, жестом подзывая слуг ближе.
Они взгромоздили на стол передо мною шедевр — громадный пирог, политый глазурью, на глиняной подставке. Он являл собой точное подобие замка, с башнями и зубчатыми стенами, как Мобержон. Это и впрямь был шедевр: окружающий замок ров устлан зелеными листьями, а на башнях развеваются украшенные лентами знамена с выдавленными на них fleurs j’de lys. Людовик, сияя от удовольствия, взмахнул рукой, призывая отрезать верхушку.
— А что там внутри? — спросила я.
Сласти? Цветы? Какое-то необыкновенное изделие из драгоценного сахара[35]? А может быть, даже изукрашенная самоцветами небольшая корона, под стать той, которую совсем недавно возложили на мою голову?
— Сейчас увидите…
Повар провел ножом по окружности. Я подалась вперед. В зале все замерли в ожидании. Верхушку подняли целиком…
Я задохнулась от восторга.
Послышались радостные, восхищенные возгласы дам — с громким шумом крыльев на свободу из заточения вырвалась целая стая маленьких певчих птичек. Они тут же расселись на стропилах зала, под самым потолком, а некоторые, особенно напуганные, летали над столами. Дамы визжали, придерживая руками нарядные покрывала, мужчины выражали свой восторг громкими одобрительными возгласами. Птицы, еще сильнее испуганные всем этим шумом, стали бестолково носиться по залу с пронзительным писком, забрызгивая своим пометом столы, наряды и яства.
Я хохотала взахлеб, до икоты. Сначала, кажется, просто таращилась, не в силах прийти в себя от изумления. А чтобы спрятаться от беспорядочно носившейся стаи птичек, готова была забраться под стол.
— Вот ведь дьявольщина! — воскликнул с грубым хохотом Рауль де Вермандуа.
— Ваше величество! — укоризненно произнес аббат Сюжер, сохранивший, несмотря на все происходящее, полагающееся его сану достоинство.
Бедняга Людовик! Если он надеялся услышать мелодичные трели, то его постигло жестокое разочарование. Громкий немузыкальный писк птичек лишь усиливал царивший в зале хаос. Но этим дело не закончилось. В руках самых нетерпеливых гостей появились арбалеты, раздались взрывы хохота баронов, и арбалетные болты полетели в неожиданные цели, что было небезопасно. Впрочем, если учесть обстановку, стрелками они оказались отменными. Бароны, в числе которых находились и мои собственные вассалы, восторженным ревом встречали каждое попадание. Птички стали падать на пол, где их тут же хватали столпившиеся в ожидании поживы псы.
Я смотрела на все это с нарастающим смятением. Истерически захихикала Аэлита.
— Ну-у-у, Людовик… — Я напряженно искала нужные слова, преодолевая свое отвращение к бессмысленному кровопролитию, преодолевая жалость к беззащитным птичкам. — Зрелище удалось на славу!
Людовик уже давно вскочил на ноги, лицо побледнело, потом налилось синевой, как у мертвеца.
— Я вовсе не на это рассчитывал.
Разумеется, не на это. Но он, значит, недостаточно все обдумал? Штук сорок птичек, если не больше, сперва заключенные в пирог, а затем вдруг выпущенные на свободу, неизбежно должны были вызвать хаос.
— Уберите их отсюда, — распорядился король, когда прямо передним на стол упала с отчаянным писком маленькая раненая птичка.
— Как их можно убрать? — спросила я, теперь уже сердито. — Если вы запасетесь терпением, ваши бароны перебьют их почти всех.
Зрелище воистину вызывало жалость. Повсюду кровь, смерть, трупики несчастных птиц. Я старалась не обращать внимания на смешки и издевательские реплики гостей, которые были еще достаточно трезвы, чтобы насмехаться над постигшей Людовика неудачей. Угомонились все лишь после того, как шальная стрела впилась в плечо какого-то невезучего оруженосца.
Бедняга Людовик!
Даже лучшие его намерения оборачивались полной катастрофой.
Когда Людовик торжественно обменивался с каждым из своих баронов положенным поцелуем мира, я вздрогнула от дурных предчувствий. Он не родился быть вождем и никогда им не станет.
В первые же недели после коронации мне сделалось очевидно, что я переоценила свои силы, когда задалась целью заставить супруга проявлять внимание ко мне. Король по-прежнему уделял мне, как и самым неотложным делам государственного управления, самую малую толику времени — когда этого невозможно было избежать. В его мире безраздельно царил Всевышний. Бог требовал от него любви, требовал неуклонно выполнять все церемонии и обряды, Бог определял распорядок его дня. Нет, когда наши пути пересекались, Людовик неизменно радовался этому. Не стану отрицать, что он был со мною всегда добр и ласков. Целовал в щечку, делал подарки. Иной раз целовал и в губы, гладил по волосам, при этом смотрел восхищенным, полным радостного удивления невинным взором, как будто не мог поверить в то, что ему вообще досталась жена. Иногда я не видела его по многу дней кряду.
Бог свидетель, я была очень терпеливой. Не кричала. Не бранила его и не укоряла за то, что мне почти не достается его внимания. Клянусь Пресвятой Девой, я и не желала ссор! Мне приходилось обуздывать свой горячий нрав, а между тем скука размеренной, однообразной дворцовой жизни душила меня. Тоска тяжелым камнем ложилась на мою душу.

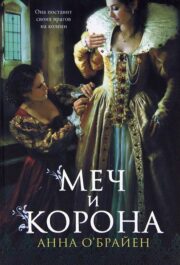
"Меч и корона" отзывы
Отзывы читателей о книге "Меч и корона". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Меч и корона" друзьям в соцсетях.