Когда Тома сказал Мари, что Жюстина предложила ему деньги для того, чтобы основать собственную газету, та неожиданно устроила сцену. Поняв, что он собирается пойти на улицу Бак и ни за что не возьмет ее с собой на деловой обед, она с горечью заявила, что он не должен волочиться за женщинами, не принадлежащими к их классу.
Он хотел мило отшутиться, как это бывало раньше, когда мягкая ласка заставляла Мари растаять, но та потеряла терпение и с отчаянием заявила, что она ждала этого и знала, что он никуда не будет брать ее с собой, так как стыдится ее.
Тома изо всех сил старался успокоить ее:
— Не говори так, Мари, не говори.
Он почувствовал, как сильно измотались его нервы. Он делал все возможное, чтобы укрепить их привязанность друг к другу. Почему ей хочется понапрасну принижать себя таким образом? Ей трудно было простить ему то, что она беднее его. Но будет ли она когда-нибудь достаточно великодушна, чтобы позволить ему дать ей хоть что-то? Его усталость перерастала в раздражение.
— Что же, — проронил он, — у тебя нет причины упрекать меня. Я даю тебе все, что могу. Я живу с тобой. Никуда не хожу с другими женщинами. Я не видел ни одной другой женщины с тех пор, как ты здесь. Единственная, кто навестил меня, это Жюстина Эбрар.
Мари отвернулась.
— Можешь ты поклясться, что не виделся снова с Шарлоттой Флоке?
— Перестань упоминать о ней, — взревел Тома. — Почему ты всегда швыряешь это обвинение мне в лицо?
Она знала, что ей не следовало вновь называть это имя, ее женский инстинкт удерживал ее, но она не смогла остановиться и выдала свои тайные опасения.
— Мари! — воскликнул он, не в силах больше владеть собой. — Почему я должен был броситься к ней, как только вышел из тюрьмы? Разве она сделала для меня хотя бы что-нибудь, пока я там был? Разве она написала мне, послала мне передачу? Ничего этого не было, и ты это прекрасно знаешь. Неужели ты думаешь, будто я настолько себя не уважаю, что могу пойти к женщине, которой безразличен? Я мог бы преспокойно умереть в тюрьме, и это, конечно, взволновало бы ее меньше всего.
С этими словами у него вырвалась затаенная горечь, обида на Шарлотту — он ужасно страдал от мысли, что та совсем отказалась от него.
— Вот как? — сказала Мари. — Для чего же тебе были нужны ее передачи? Разве не было меня, чтобы позаботиться о тебе?
— Ей не было до меня никакого дела, — не отвечая, продолжал он.
— Неужели тебе так сильно хотелось встретиться с ней? — спросила Мари, быстро взглянув на него снизу вверх.
— Меня это нисколько не заботит, ты слышишь? Нисколько не заботит!
— Возможно, тебя это заботит больше, чем ты хочешь себе признаться.
— Успокойся.
— А что, если я скажу тебе, что она дважды приходила в тюрьму Мазас с передачами для тебя…
Его лицо побелело.
— Мари, — быстро сказал он, — перестань играть со мной. Это неправда.
Но теперь она не могла остановиться. Из-за злого желания узнать все наверняка она теперь хотела заставить его выдать себя.
— Она приходила в Мазас дважды. Она оставляла посылки при входе. Но на той неделе случились беспорядки, и передачи были конфискованы. Эти свиньи из охраны съели половину и потом не осмелились показать тебе посылки, так что оставшиеся там вещи были перемешаны с моими подарками и подарками твоих друзей, ты и не догадался, но я все знала, потому что подружилась с сынишкой привратника. Я видела посылки и, если хочешь знать, видела и саму Флокс в тот день, когда она приходила в Мазас. Но она не собиралась пачкать свои наряды в тюремной приемной. Она быстро ушла, не дожидаясь. Поэтому я решила, что тебе незачем знать, от кого посылка, и ничего не сказала.
Тома смотрел на нее, открыв рот. Эта новая сторона характера Мари лишила его дара речи. Затем его охватил гнев.
— Почему ты ничего не сказала мне? Как ты посмела так поступить?
Именно такой реакции она и ожидала. Мари почти хотела, чтобы он ударил ее, так отчаянно она желала доказать, что ее ревность обоснованна.
— И после всего этого ты еще можешь говорить, что не любишь ее! — воскликнула она почти торжествующе.
Ему нечего было сказать в ответ. Тома видел, что выхода нет. Он подошел к окну, широко распахнул его, сделал глубокий вдох и понемногу начал успокаиваться.
Мари не плакала, она только чувствовала горечь победы. Тома стало жаль ее. Он подошел, сел на подлокотник кресла и погладил ее по волосам.
— Успокойся, — сказал он, — успокойся. Это все моя вина. Возможно, мне не следовало привозить тебя к себе.
Он долго говорил какие-то слова, и наконец буря улеглась.
На следующий день, ничего не сказав Мари, Тома направился на улицу Месье-ле-Принс. На углу улицы Расина он замедлил шаг, почувствовав, как внутри сжалось сердце. Он не знал точно, что ему делать дальше. Не знал, хочет ли он пойти прямо на квартиру Шарлотты, чтобы попытаться увидеть ее. Он шел, будто его вела чья-то невидимая рука. Откровения Мари накануне вечером взволновали его. Как он мог подумать, будто безразличен Шарлотте, бранил он себя. И все же ему не хотелось признаться, что он испытал большое облегчение, узнав про посылки.
Он настолько запутался в своих мыслях, что сначала даже не заметил группу людей, стоящих на мостовой около одного из домов. Когда он подошел поближе, то удивился их напряженным, неестественным позам, их черной одежде, будто люди собрались на похороны. Раздавались тихие голоса, и Тома увидел черное полотнище с вышитой буквой «Ф», подвешенное, словно занавес, над парадным.
Он не смог ни заметить номер дома, ни прочитать надписи на венках, загораживавших вход, пока не показались гробовщики, которые вынесли покрытый черным гроб. За ними шли женщины в трауре; их лица под черной вуалью показались ему знакомыми.
В этот момент самая изящная из женщин подняла свою вуаль. Тома был потрясен — то была Шарлотта…
Ошеломленный, Тома мгновение стоял посреди дороги. Теперь его утомленный мозг сумел ухватить смысл надписей на венках, качавшихся наверху катафалка: «Моему любимому мужу», «Моему дорогому сыну». Был слышен шепот:
— Бедный Флоке… Такой молодой. И она так преданно ухаживала за ним. Какая ужасная смерть. Бедняжка, это подорвало ее здоровье.
Умер Флоке. Тома застыл на месте. Процессия двинулась вперед, он двинулся вслед, едва ли понимая, что делает. В глазах стояло лицо бледной Шарлотты под вдовьей вуалью.
Он смотрел на склоненные головы родственников покойного, на заднюю часть удаляющегося катафалка, театрально украшенного дрожащими гирляндами бессмертников. Процессия замедлила ход на небольшом уклоне улицы при выезде на бульвар. Прохожие на улице замолкли и, чтобы уступить дорогу, отодвинулись назад, тесня друг друга.
Тома продолжал следовать за печальной процессией, еще не вполне осознавая значение этой смерти. Он даже не знал, что Этьен был болен, и вот теперь его хоронят. Шарлотта стала вдовой.
Мысль о том, что она стала свободной, пронзила его. Тома боялся поверить в возможность счастья, которое еще пять минут назад казалось неправдоподобным, чудом. Счастье? Еще нет. Сам по себе факт, что она свободна, вовсе не означал счастье или надежду на него. Тома должен был хотеть его, а он уже не хотел. Смерть Этьена опечалила его, как могла бы опечалить любая оборвавшаяся жизнь.
Скромные похороны делали мертвого Флоке таким же заурядным, каким он был при жизни. На этом последнем его пути люди проявляли к нему лишь внешнее сочувствие, ведь они знали его отдаленно, только как соседа. Казалось, не было ни одного истинного друга, который бы поплакал у его гроба. Но так только казалось. Поддерживаемая близкими женщина под вуалью отчаянно рыдала, вытирая платочком слезы. Это была не Шарлотта, а мать Флоке, приехавшая из Ниора проводить покойного сына.
Люди шептались между собой.
— Вы хорошо его знали, месье? — услышал он вдруг.
Вопрос задал невысокий пожилой человек.
— Да, я знал его, — ответил Тома и мысленно добавил: «Я почти отобрал у него жену. Я хотел взять все, что у него было. Я никогда не любил его. Он не любил никого, но он умер. Теперь я не могу ненавидеть его. Бедный Флоке! Во всей твоей жизни не было ничего, кроме поражений, теперь я прошу у тебя прощения».
На углу бульвара они были задержаны демонстрацией студентов, выступавших против увольнения одного из профессоров. На мгновение мрачный кортеж был изолирован и потерялся среди кричавших молодых людей.
Затем сопровождающие собрались снова, и Тома увидел Леона Фера с его кузиной Амелией, идущего сразу за семьей Флоке. Тома не стал присоединяться к ним, а пошел позади, замыкая шествие. Процессия достигла церкви Сент-Этьен-дю-Монт, и гроб с телом Этьена оказался в окружении горящих свечей под сводами храма, наполненного громовыми звуками органа. Тома не мог заставить себя войти внутрь.
В начале июня 1869 года общественная жизнь Франции была сконцентрирована на проблеме грядущих выборов в законодательное собрание. Впервые после долгих лет диктатуры избиратели могли почти свободно выразить свою волю.
Наполеон Третий согласился с принципом всеобщего избирательного права, но до сих пор никому не было позволено выставить свою кандидатуру без молчаливого одобрения правительства и администрации. Это обстоятельство, а также то, что пресса до 1868 года была не более чем рупором правительства, означало, что режим мог спать спокойно. Никакая оппозиция не могла стать препятствием для проведения его политики.
До настоящего момента императорская корона, омытая кровью мучеников, погибших на баррикадах 2 декабря 1851 года, казалось, крепко сидела на голове человека, которого Виктор Гюго заклеймил как узурпатора. Тем не менее Наполеон Третий был вынужден ослабить намордник на прессе, и, хотя весной 1869 года газеты более чем когда-либо подвергались штрафам и запрещениям, а журналисты — тюремному заключению и высылке, правительство было вынуждено сдать оппозиции еще один рубеж. Было позволено выдвигать кандидатов на выборы без одобрения дворца Тюильри. В результате оппозиционные и республиканские кандидаты, как в Париже, так и в провинциях противостояли кандидатам, непосредственно представляющим режим.

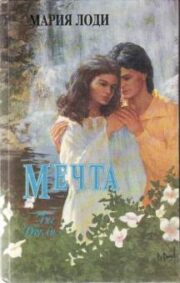
"Мечта" отзывы
Отзывы читателей о книге "Мечта". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Мечта" друзьям в соцсетях.