Но по-прежнему он был стройный, красивый; голова непокрыта — красивые кудрявые, очень темные волосы. И губы красивые, и светлое смуглое лицо, чуть округленный лоб, и нос красивый с этим мило-закругленным кончиком, от которого при улыбке лицо делалось такое милое. И прекрасные темные большие глаза и брови и ресницы… По-прежнему его красота вызывала представление о прелестной яркой птице, нежно поющей; и о душистом, раскрывшем яркие лепестки, цветке… чудесное, яркое, красивое… Но было видно, что очень незащищенный, беззащитный…
Уже давно вступил он в странные отношения с той категорией бытийной, которая называется: «Время». И трудно было определить со стороны, во всем ли по своей воле, или по воле Времени, или еще по чьей-то странной, категориальной, воле. Кажется, он и сам не мог бы точно определить, а, возможно, и не задумывался особо… Но все остальные старели телесно, потому что жили все старше; а он после двадцати лет все оставался милым юношей, пытливым и занятным; философические суждения, музыка и пение занимали его.
Он был моложе себя самого; ему будто навсегда оставалось чуть больше двадцати лет. Но что-то уже застылое, уплотнившееся в его облике… На самом деле, по обычному для людей линейному временному счету, ему было уже много лет, но всегда оставалось чуть больше двадцати. И эти его юные — чуть больше двадцати — годы только с каждым годом обычного линейного времени человеческого как бы уплотнялись, как бы сгущались; но не проходили…
Кто-то в разговоре произнес слово «правда»; и быстро проговорили о том, правду ли сказала она, и кто еще сказал правду или неправду… Она ухватилась за это слово и заговорила, возразила с горячностью; и чувствовала, что он близко от нее, он слушает ее; от него такая неожиданная родная теплота, такую теплоту даже отец не мог дать ей; и при ощущении такой теплоты уже и не надо было говорить… Но она не могла поверить и говорила…
— Правда — это ужасно, — говорила она. — Это то, что под пытками, из-под ногтей; то, что вымучивают, выпытывают, когда в застенках иголки под ногти загоняют. Свободный человек ненавидит правду и все, что зовется этим словом; все, что желает называться правдой. Потому что все это — то, что на самом деле можем обозреть, увидеть; не напрягая воображение, не напрягая силы души; и это ужасно! И пусть не призывают меня к этому ненапряжению; я не хочу видеть то, что на самом деле!..
Она не полагала, что так уж умно говорит, но почувствовала и быстро увидела, что он, ссутулившись немного, не сводит с нее огромных глаз, — казались очень большие, совсем черно-глубокие, и какие-то в них упорство и остановленность; и страшное, тоскливое для нее, — сразу — ощущение его (и ее) безумия…
Но она горячо говорила дальше…
— Правда — не в том, чтобы увидеть в человеке дурное, и поспешить сказать ему о том, что ты увидел. Правда — искренне суметь увидеть в человеке хорошее, доброе; и искренне суметь открыть ему это…
Она вдруг подумала, что он ведь как раз это и утверждает… И замолчала…
Еще говорили, но уже начали расходиться. Надо было и ей идти домой, но она еще не уходила. Она и вправду не понимала, почему она колеблется и чего она хочет. Она чувствовала, что он смотрит на нее. Ей вдруг показалось, что если она сейчас быстро уйдет, она обидит его. Но не может она стоять здесь…
В несколько широких легких шагов он оказался рядом с ней и поклонился ей учтиво. Так приятно ей стало.
— Как вы хорошо сказали, — он произнес задумчиво и серьезно, — какая верная интересная мысль…
Он заговорил легко и даже с некоторой важностью. Но она почувствовала, что это странное притворство: вовсе ему и не хочется говорить, а хочется погрузиться в молчание. Но он боится этого притягательного молчания. Боится, что будет скован, как в параличе; молчание затянет его, он увязнет в этом вязком своем молчании… И он, в сущности, робок; и в глубине души не верит, что слова и действия его могут иметь какое-то значение, как-то важны могут быть…
— …Воспринимают все слишком серьезно, — говорил он. — Я хотел бы посмешить людей, чтобы они не воспринимали все так серьезно…
Она хотела было возразить ему быстро; она обычно противоречила собеседникам, часто даже не давая им высказать до конца то, что они хотели бы сказать… Но вдруг она подумала, что, пожалуй, мысль его глубока. Выспренность, чрезмерная серьезность и напыщенность молитв, славословий, государственных клятв и речей — вот что и приводит к большим кровопролитиям… Она вспомнила одну проповедь, которую слышала на площади. В сущности, то, что говорил монах, было ужасно; и он призывал к убийствам; и ничего, кроме страшной смерти несчастных женщин и детей, не могло произойти от его слов. Но ее охватывало страстное желание соглашаться с его словами… Она, конечно, не хотела смерти женщин и детей; впрочем, они были для нее ничем; к детям она была равнодушна с некоторой долей брезгливости, а женщин презирала горделиво. Но ей хотелось уничтожения, сметения с земли затхлого еврейского квартала, где насаждалась косная уверенность в некоей истине, и полагалось во имя этой истины быть готовыми к претерпению обид и поношений. Но в христианских храмах провозглашали с той же истовостью, с той же самой косностью иную истину. И если уже предлагались две истины (а, вероятно, их и больше было), если можно было проникнуться верой искренне в ту или иную истину; значит, никакой одной-единственной истины и не было вовсе. И женщины еврейского квартала, говорящие о детях, о еде, и зажигающие свечи перед наступлением субботнего дня, были ей противны… И если ее причисляют к этим женщинам, это все равно что чувствовать, будто бы ты грязное насекомое… Но, конечно, она кривила душой, когда (для равновесия, для трусливого соблюдения некоей ложной справедливости; справедливости, которая на самом деле никакой справедливостью и не была; и не нужна ей справедливость мелочных весов, на которых скупой жид взвешивает мелкие монетки, подталкивая их ногтем указательного пальца!)… И она кривила душой, когда уверяла себя, что и в христианском городе найдет все ту же затхлость и косность; особенно у женщин, разумеется… Нет, на самом деле она знала: именно из христианского мира может открыться простор, где нет никаких обрядностей; нет истин, которые следует истово и косно утверждать, и во имя утверждения которых полагается мучить и быть мучимыми; ничего этого нет, а есть свободная красота мышления и чувствования, свободность… И это не значит, что нет противоречий, но такой вот косной страшной вражды нет…
Эти свои мысли она бы рассказала ему, и он бы нашел слова понимания глубинного и утешения. А, может, и ничего бы не сказал в ответ, но все равно было бы ясно, прозрачно, увидела бы она, почувствовала, что он все понял и, значит, уже утешил ее… Но она не скажет ему сейчас… И, может, после все скажется легко и почти неприметно, и таким уж значимым не будет больше… Он и сейчас предлагает помощь: смех… Она ведь тоже слишком серьезно и выспренне воспринимает то, к чему, возможно, и не следует относиться так серьезно…
— Мое имя — Андреас Франк; возможно, вы слышали обо мне, — представился он с каким-то странным, почти детским самодовольством. — А как ваше имя? — спросил он мягко.
— Я — дочь Гирша Раббани…
Конечно, он слышал о ней, и даже, кажется, видел ее мельком… Он и сейчас не приглядывается, а она все время опускает голову и прикрывает лицо краем головного покрывала…
— Мой отец — сапожник, сказала она. — Много лет он тачает для вас башмаки. Вот и эти ваши башмаки — его работы, — она улыбнулась, потому что знала, что обувь, сделанная ее отцом, вовсе нехороша, и эти башмаки тоже были некрасивые, неуклюжие. Но и ее отец и она сама даже гордились подобной неискусностью; эта неискустность как бы доказывала, что призвание ее отца — вовсе не сапожное ремесло. Она знала, что ее отец — особенный человек; он даже не соблюдал субботние дни, и мужчины с этим мирились. Но женщины, всегда более косные во всем, что касается соблюдения внешней обрядности, чуждались ее, не разговаривали с ней, потому что она не зажигала свечи перед наступлением субботнего дня, и много еще чего не делала, то есть, в сущности, совсем никаких обрядов не исполняла. Хотя было у нее одно свое ремесло, имевшее отношение к обрядам, и при исполнении которого она говорила много, но ни к кому в отдельности не обращалась, разве что к одному лицу, которое, по всей вероятности, не могло услышать ее голос… — Меня зовут Сафия, — сказала она. И добавила, — это означает «чистая», «прозрачная»…
«Но зачем я это сказала? Чтобы привлечь его внимание ко мне?»…
— Я знаю, — сказал он.
Голос такой красивый и мягкий этой особенной мужской мягкостью…
И вдруг она, будто противилась чему-то, стала думать сильно и быстро, что этот человек болен безумием; и почувствовала досаду на себя за то, что сейчас говорила с ним. Но хотела еще говорить…
Но он обиделся. Она еще ничего не сказала, только подумала; но он воспринял, ему стало больно, он был обижен, он не мог сдержаться. Голос его задрожал беззащитно.
— Я даже помнил, как вас зовут. Но забыл сейчас. У меня что-то с головой… — теперь он словно бы нарочно подчеркивал свою болезнь…
— Вы поняли меня, — проговорила она едва слышно, и совсем низко опустила голову…
В сущности, она вдруг поняла, что хотела сказать другое — «Вы не поняли меня»… Но он не может не понять ее. Он понимает, что она его любит больше всего на свете. Отец не в счет, отец всегда был, как солнце и луна. А этот человек — сокровище; он — то, что в жизни обретаешь как подарок драгоценный, который она, вдруг милосердная, отдает тебе с улыбкой…
Он понял…
— Я слышал об уме дочери сапожника, — сказал он с прежней мягкостью и с этим своим странным легким детским самодовольством. — Я знаю, это не практический женский ум, а занятный, для бесед увлекательных… Позвольте мне проводить вас…

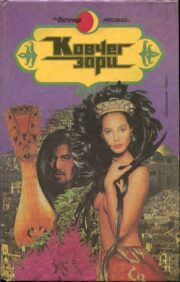
"Наложница фараона" отзывы
Отзывы читателей о книге "Наложница фараона". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наложница фараона" друзьям в соцсетях.