– Если бы я только проявил волю, – неожиданно горько сказал он, – оказался бы достойным сыном своей матери. Если бы отрезал, раз и навсегда, что не будет пороку места в моем доме! Мама, конечно, поплакала бы, побунтовала, а потом смирилась бы. Человек ко всему привыкает, даже к голоду. Сначала невыносимо, кишки прилипают к спине, кровят десны, во рту вкус, будто ложку железную сосал. А потом ничего, набьешь живот корой или глиной, только не темной, а светлой, у нас на речке такая была. От нее даже поноса почти не было.
На отцовской шее мучительно, как у проглотившего орех петуха, заходил кадык.
– Кто знает, – сказал он, – настоял бы на своем, мама осталась бы жива. Не надорвалась бы. И мальчик был бы жив… Рома.
– Ты выгнал Женю из дома, – затараторила Наталья, слова посыпались сами собой, как мелочь из порванного кармана, – что еще ты мог сделать?
– Что-нибудь, – сказал отец, – что угодно…
Глава 32
Женя сверилась с бумажкой, Ромина могила находилась на участке 23. Тяжесть на сердце стала привычной, как горб.
Первомайское кладбище выглядело старым и заброшенным. Могилы с кованой оградой стояли близко, как кровати в бараке. Некоторые плиты выглядели старыми, изъеденными временем и погодой. Дорожка петляла между оградами и уходила все глубже в лес. Сосновый бор, обычно светлый и чистый, казался темным, словно подъеденным кладбищенской тоской. На дереве была прибита ржавая табличка, на которой с трудом можно было разобрать номер.
Земля на Роминой могилке подсохла и высилась легкой, рассыпчатой грудой. Сверху лежал единственный без надписи венок. Искусно сплетенные белые бутоны роз с розовыми, словно испачканными в крови, краями и еще свежие, крепкие, как пожелтевшие зубы, каллы.
Женя опустилась на колени и коснулась рукой земли. Деревья сомкнулись в тесный, душный круг. Застыло в висках время, уперлись в низкое небо бессмысленные железные шишечки на кованой оградке вокруг могилки.
Звуки словно прорвались сквозь невидимую пелену. Басовито жужжал шмель, перебивая друг друга, неутомимо стрекотали кузнечики. На соседней могиле позвякивал привязанный за тонкую шею колокольчик. Где-то невдалеке слышались голоса играющих детей. Их голоса ясно разносились по сосновому бору, еще мгновение назад казавшемуся непроходимой чащей.
Уходящее солнце скользнуло теплыми пальцами по мокрой Жениной щеке. Дрогнул, словно ожил, крупный цветок на макушке траурного венка. Из цветка выбежала шустрая мушка и трудолюбиво потерла волосатые лапки.
– Ш-ш. – Женя махнула рукой.
Мушка озадаченно замотала головой и продолжила туалет.
– Пшш-ла.
Мушка оттолкнулась задними лапками и взвилась в воздух. Пролетела два стремительных прощальных круга над венком и унеслась.
Кромешную тьму, в которой Женя находилась в последнее время, прорвала сумасшедшая, ослепительная, как комета, мысль. Не может быть. Не может быть, чтобы ее теплый, живой, яркий, солнечный Ромка лежал под этой глупой кучей земли. Не может быть!
Женя вскочила на ноги. Крошечный бугорок земли, красивенький венок, новенькая, выкрашенная черной краской оградка показались вдруг нелепыми и ненастоящими, как театральные декорации.
Женя сжала голову холодными дрожащими пальцами и облегченно засмеялась.
Стучали-стучали-стучали колеса, унося Женю прочь. Все дальше и дальше от родного города. От дома, от семьи, от себя. Все дальше от маминой улыбки и Роминого лица. Все дальше от Твери, непримиримых глаз отца и виноватой Натальиной спины.
Стук колес отдавался в сердце тупой, как от вчерашнего пореза, болью.
Пожилая, похожая на сушеную рыбу с пустыми глазами проводница уже собрала билеты и пошла открывать туалет. Женя спрятала ноги под столик и оказалась нос к носу с соседкой, занимавшей нижнее боковое место – тридцать семь. Тощая бабка подслеповато прищурилась, расстелила на столике несвежий платок, засунула в рот корявый коричневый палец и с чавканьем вынула слюнявую, громадную вставную челюсть. Бабка любовно обтерла челюсть уголками платка, запеленала в аккуратный сверток, сунула в карман, хозяйственно застегнула его на пуговку и улыбнулась Жене впалыми щеками.
Стукнулась, открываясь, дверь, обдало туалетным запахом. Проводница осмотрела их рыбьими глазами и сообщила:
– Можно пользоваться.
– Шпашибо, милая, – восторженно прошамкала бабка. С кряхтением поднялась и, путаясь в длинной юбке сапогами, уковыляла в туалет.
– Ох, намучаюсь я с ней, – пробормотала проводница, – почки у ей больные. Потому и место такое.
– Ваша мама? – догадалась Женя.
– Какая еще мама, – проводница пожала костлявыми, сильными, как у мужика, плечами, – маму бы я к себе взяла. Помёрла матушка, восемь лет уже. А Петровна к сыну ездит. Васька на зоне парится… козлина.
– А-а, – растерялась Женя.
Проводница продолжала говорить, мрачно двигая сухими, рыбьими челюстями.
Женя слушала через раз, не вникая в злоключения непутевого бабкиного сына. Зэки и прочая братия не вызывали интереса, они жили в другом, опасном мире, с которым не хотелось пересекаться, даже теоретически.
Хлопнула дверь туалета, окошечко входной двери рамкой обрисовало бабкино лицо. Портрет матери заключенного, подумала Женя. Дверь отрылась и звонко хлопнула по Жениному сиденью.
– Ой, – сказала Женька.
Бабка Петровна сделала круглые глаза и, шамкая извинения в сторону проводницы, протиснулась на свое место.
– Белье брать будем? – громогласно вопросила проводница.
– Будем, – сказала Женя.
– У меня свое, – неуверенно улыбнулась Петровна, меленько мотая головой.
– Два комплекта. – Мужчина через проход указал тремя пальцами в сторону дремавшей у окна женщины.
– Мужчина, – дернула сухими скулами проводница, – вы мне зачем три пальца кажете, а говорите – два?
Женщина у окна встрепенулась и певучим, явно ивановским говором сообщила:
– Вы не смотрите на руку-то. Травма у него. Пальцы не сгибаются. Двое нас, двое.
– И нам два, – покраснела другая пассажирка. Она повернулась к симпатичному пареньку со сдвинутыми на всякий случай бровями и улыбнулась.
Сухими губами проводница пересчитала присутствующих по головам и удалилась, поскрипывая костистыми членами.
– Меня тоже, кажись, посчитала? – испуганно спросила Петровна.
– Не знаю, – призналась Женя.
– И я не поняла. – Петровна сжала маленький кулачок. – Эх, надо было мне еще раз крикнуть, что, мол, не надо мне вашего белья!
– Мне кажется, она поняла, – сказала Женя.
– И то, и то. – Петровна вытянула тощую шею и тревожно вгляделась вглубь вагона.
– Скажите мне, когда соберетесь укладываться, я помогу, – предложила Женя.
– Спасибо, милая, спасибо, – шепеляво забормотала Петровна, – и правда, надо бы лечь. Не будет же она мне насильно белье пихать? Тем более если я сплю?
– Не будет, – успокоила ее Женя, закидывая свои вещи на верхнюю полку.
Петровна суетливо сползла со своего места, ухватилась за поручень и стянула с себя старенькие сапоги.
По вагону поплыл кислый запах, от которого вдруг стало невыносимо грустно.
Подскочил трехпалый, от него уютно пахло жареной курицей и почему-то клеем, помог спустить с багажной полки скрученные валиком матрасы. Женя разложила их на свою и бабкину полки. Петровна шустро запихала сапоги под столик и, не раздеваясь и ничего не подстилая, свернулась в клубок на краешке матраса. Ее было так мало, что показалось, на видавшем виды комкастом матрасе забыли старенькое пальто.
– Взять вам одеяло? – шепотом спросила Женя, усаживаясь на свободный край.
– Возьми, милая, возьми, – еле слышно проскрипела Петровна.
Женя накрыла бабку одеялом и подоткнула уголки.
Тихонечко заныла опустошенная душа.
Глава 33
Октябрь 1993
Пилипчук настоял, чтобы Наталья поехала в Москву провожать Асю и Сережу. Выехали поздно вечером в одном купе. Андрей Григорьевич снял с плеча спящего Сережку и аккуратно уложил на верхнюю полку.
– Я тоже на верхнюю полку лягу, – сказала Ася, возбужденно сияя глазами.
– Не упадет? – спросила Наталья. – Может, лучше вниз Сережу положить?
– Может, и лучше, – натужно засмеялась Ася, – что я буду без вас делать? Без тебя и тяти?
Пилипчук подсунул под Сережу согнутые в локтях руки и молча переложил вниз.
Сережа спал беспокойно. Лампа у изголовья отбрасывала неровные тени на его бледное после больницы лицо.
Наталья вышла в коридор и долго стояла у окна, глядя в темноту. Беспокойно, как испуганное сердце, стучали колеса. Мимо прошла женщина, качая бедрами в такт движения поезда, следом, оскалив зубы в улыбке, протиснулся мужчина. Женщина повернулась к нему лицом и залилась смехом, обнажив молочно-белую, беззащитную шею.
В проеме двери купе возникла массивная фигура Пилипчука.
Наталья чуть подвинулась, освобождая ему место.
Они молча стояли у окна. Мимо бежали столбы, связанные друг с другом нитями проводов, темные деревья укоризненно кивали им вслед.
– Поспи иди, – сказал он, – завтра весь день по Москве мотаться. Ася уже спит.
– Почему вы ее отпускаете? – спросила Наталья.
Пилипчук шевельнул каменной челюстью и ничего не сказал.
Поезд замедлил ход. В окне мелькнула освещенная ярким светом, ненастоящая, словно нарисованная на стене станция.
Мимо прошел заспанный мужик в железнодорожной форме с фонариком и гаечным ключом.
– Что-то сломалось? – спросила его Наталья.
– Вряд ли, – отозвался Пилипчук. Поезд свистнул и тронулся с места.
Снова застучали, нагоняя тревогу, колеса.
– Ася – моя дочь, – будто продолжая разговор, сказал Андрей Григорьевич.
В его глазах мелькнуло тоскливое, как у бездомного пса, выражение.
– Она его любит, – неуверенно сказала Наталья.
– Еще нет, но она скоро научится, – с неожиданной горячностью возразил Пилипчук, – вот увидишь, она будет хорошей мамой. Ты все правильно сделала, не переживай.

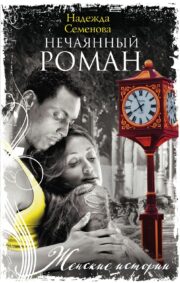
"Нечаянный Роман" отзывы
Отзывы читателей о книге "Нечаянный Роман". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Нечаянный Роман" друзьям в соцсетях.