— Мне нужно идти.
— Всего пятнадцать минут. Это ведь копейки.
— Сегодня тяжелый день. С утра ушел целый стол, не заплатив, и мне надо помочь девчонкам, чтобы покрыть недостачу.
— Я оставлю чаевые.
— Я уже сказала, куда можешь засунуть свои деньги!
— Тихо… Вишенка…
Господи, когда его пальцы мягко массируют кожу головы, я готова, как кошка, прогнуться и мурлыкнуть, подаваясь ласке, забыв обо всех обидах. Я так устала, шея и спина горят от напряжения и таскания тяжелых подносов. От нежного расслабляющего массажа по телу в прямом смысле идут мурашки.
— Просто помогаю… девчонкам… тебе… я же занимаюсь благотворительностью. Говорят, добрые дела помогают.
— Правда?
— Врут.
— Я не могу исправить то, что натворил папа. И не могу ее вернуть. Хотя и хотела бы. Если бы знала, что ты любишь ее…
— Я ее не люблю, — огорошивает ответ.
— Тогда что с тобой происходит?
— Не знаю.
И, чтобы прервать бесконечную череду вопросов, бывший снова меня целует. Я чувствую его возбуждение, под моей ладонью неистово бьется сердце. Кабинка ресторана — последнее место, где стоит сходить с ума, но я все равно схожу, забыв и о работе, и о том, что плотные шторки хоть и закрывают нас от всего мира, не являются надежной преградой.
Обычно в такие мгновения я становлюсь какой-то непривычной Ксюшей, не принадлежащей себе, но сейчас я, пожалуй, просто возвращаю крохи нежности, которые получила. Это наивное представление о мире, взгляд через розовые очки, но мне кажется, что если вернуть Никольскому в десять раз больше тепла, чем он дал, то станет чуточку теплее.
А еще меня поразило… нет, скорее тронула забота о Машке. «Живу ради нее» — единственная мысль, которая долго держала меня на плаву. Я смотрю в темные бездонные глаза и вижу ее же. Крошечный шаг, стиснув зубы, сжав кулаки, но ради Машки. Вернуть ей маму, оставить войну. Пусть не докричалась я, зато это сделала дочь, и за это я судьбе благодарна.
Вот такой вот конец.
С поцелуями, с пронизывающим до самых кончиков пальцев удовольствием. Я слышу, как бешено стучит сердце, кровь шумит в ушах, лицо горит, а губы слишком чувствительные для прикосновений грубых горячих пальцев.
Когда ладони Никольского поднимаются по моим бедрам вверх, собирая платье, оставляя на коже невидимые, но безумно обжигающие следы, я напрягаюсь, вспоминаю сауну, пугающую смесь боли с наслаждением.
— Не бойся… — выдыхает муж мне в губы. — Я буду очень осторожен. Если будет больно, скажи, хорошо?
— Вовка… ты дурак? Мы же в ресторане!
— Мы прощаемся. Это же лучше чем было?
Это… черт. Чтобы не стонать, я прикусываю воротник его рубашки, а еще прячу лицо, потому что мне стыдно за слабость, которая накатывает, едва я оказываюсь в его руках. Стыдно за удовольствие, за сладкие спазмы, за желание почувствовать давно забытое ощущение от секса с любимым мужчиной. Накрывает особенно сильно, когда я понимаю, что он нарочно проникает в меня медленно, чтобы не причинить боль.
У нас всего несколько минут. Не ночь, не выходные, и уж тем более не жизнь. Несколько минут на то, чтобы доставить друг другу удовольствие — а потом расстаться, потому что не делать мне больно он не может, а я ему не хочу.
И все же мне немного больно. От сожаления, что так не получилось с самого начала. Что нам хорошо прощаться, а жить было хреново.
Я закрываю глаза, стираю все мысли и просто позволяю удовольствию накрыть с головой. Раствориться в последнем поцелуе и очнуться только когда все заканчивается. Когда тело еще помнит, а голова уже включилась. Когда вместо отражения собственных мыслей в глазах мужа видишь слово «прощай».
— Прощай… — звучит оно наяву.
Я поправляю белье и платье, приглаживаю волосы и пытаюсь успокоить распухшие от поцелуев губы, но вряд ли это у меня получается. Слишком сильный раздрай в душе, а внутреннее состояние неизбежно привносит во внешность особые черты.
— Пока, — говорю я. — Удачи. Правда, удачи.
Я не хочу прощаться, мы — все еще Машины родители и утопичная розовая мечта о совместном воспитании еще теплится в душе. Ее не вытравить ни жестокостью, ни пренебрежением. Я до боли хочу, чтобы у Машки были и мама, и папа. И чтобы мы любили ее, даже если ненависть по отношению друг к другу станет нестерпимой.
Не могу больше оставаться рядом с ним. Не могу и не хочу, поэтому пулей вылетаю из кабинки, забыв и о грязной посуде, и о заказе, и о меню. Закрываюсь в подсобке, свернувшись в калачик между двумя стеллажами с салфетками и бутылками.
Прежней жизни уже не будет. Я должна чувствовать облегчение, я получила свою Машку, он обещал больше не делать мне больно, но почему-то вместо радости глухая тоска. Мир изменился, земля ушла из-под ног. Я знала, что будущее подернуто туманом и совершенно необязательно, что оно будет светлым. Знала, что мое настоящее темнее самой черной ночи.
Но к тому, что так изменится прошлое, не была готова. Жизнь словно пропустили через инверсионный фильтр фотошопа. Черное стало белым, белое — черным. Отец превратился в убийцу, а девушка, которую я ненавидела всей душой, была близким человеком для мужа.
Я стала свободной. Отвоевала дочь. Но тиски, сжимавшие сердце, так и не ослабли. Хочется верить, что со временем они рассохнутся, рассыплются на части — и я смогу дышать.
Надо возвращаться в зал. Скоро мое отсутствие заметят и, если полчаса я еще смогу объяснить внезапной тошнотой или защемленной шеей, то более долгое отсутствие обойдется мне финансово. Нельзя сейчас подставляться на штраф.
— Никольская, — когда я отдаю бариста очередной заказ на кофе, подходит администратор. — Идем-ка, на пару слов.
Она отводит меня в сторону, в угол, который не просматривается из зала.
— Дай-ка я тебе напомню, что, милая моя, здесь ресторан, а не бордель. Ты выбрала не то место для подработки, деточка.
— Что…
— Ничего! — отрезает женщина. — Блядовать будешь в другом месте, ясно? Ты какого хрена устроила?! Ты думаешь, тебе все можно, что ли? Каждый день тебя какой-нибудь мужик вызывает! Ты какого хрена мне здесь бордель устроила?!
— Ирина Викторовна, вы не так поняли! Это был мой муж… то есть, бывший муж…
— Неспроста, видимо, бывший.
— Мы ничего такого не делали. Просто… у нас все сложно. Я вас очень прошу, извините меня и… его. Это больше не повторится.
— Да. Не повторится. Потому что ты здесь больше не работаешь.
— Но…
— В следующий раз, если обслужить клиента расширенным набором услуг — сними номер в гостинице. Все! Чтобы я тебя здесь через полчаса не видела!
Нет. Будущее определенно не будет светлым.
— Ксюха! — я слышу счастливый голос Веры и невольно улыбаюсь. — Я вернулась! Привезла тебе кучу подарков. Винище — супер, еще привезла кофточку с Корфу, вообще отпад, летом будешь красоткой! Еще банку кумквата, оливки, сыр, магнитик и клевые конфеты! Надо будет пересечься, но я пока подкашливаю, поэтому давай на неделе. А сейчас рассказывай, как у тебя дела!
— Нормально, Вер. Хорошо, что ты вернулась. Как тебе наш снежок после теплой Греции?
— Ой, да если бы там тепло было! Нет, не минус десять, конечно, но тоже, знаешь ли, не тропики. Ветрено, вот и простыла. Но красиво. Чем занята?
— Работаю, — вздыхаю я. — В глаза как будто песка насыпали.
— Зверствует?
— Да не то чтобы зверствует… знаешь, вежливый такой, всегда хвалит. Но как в анекдоте «Все очень круто, но надо переделать». Первый вариант был слишком романтичный, второй — слишком мрачный, третий недостаточно новогодний. Потом была фраза «ой, делайте на свой вкус, я не придираюсь к шрифтам» — и, естественно, я уже перебрала штук двадцать шрифтов, ни один его не устроил. Покупать не хочет. Капец, короче.
— Ну, он хоть платит вовремя и хорошо.
Что есть, то есть. Верка еще когда я работала в ресторане слила контакты редактора издательства, которому требовался дизайнер. Они не могли себе позволить профессионала и искали девочку со знанием фотошопа, чтобы сделала «вот так же, но чуть-чуть по-другому». Платили быстро, по факту сданных обложек, а работы давали много. Я, конечно, проводила за компом по десять часов в день без выходных, но зато получала примерно столько же, сколько и в ресторане. Зато никто не называл меня шлюхой и не выговаривал за недостаточно золотистые полоски на курице в «Цезаре».
— Как Манька? Видишься с ней?
— Да.
— А с этим?
— Нет. Пишу ему сообщение с информацией, куда мы с Машей пойдем и во сколько вернемся. Потом приезжаю в садик, там уже ждет водитель. Возвращаю домой — забирает няня. И все.
— Ну а чего голос такой грустный? Лучше ведь, чем было? Ксюнь? Лучше?
— Да. Конечно, лучше. Голос грустный, потому что устала. Не волнуйся, Вер. Все будет нормально.
Если когда-нибудь они перестанут мне сниться — точно будет. Иванченко, отец, Володя, Машка. Я готова сидеть за компом сутками, лишь бы не закрывать глаза и не погружаться в очередной кошмар. Бесконечные лестницы, по которым я спускаюсь куда-то в темноту вслед за фигурой в темной куртке. Огромные торговые центры, в которых теряю Машку. Темная раздевалка спортзала и мерзкие руки, лезущие мне под блузку. Язвительный смех Даши. Кошмарам нет числа и они, черт возьми, реально мешают.
— А что там с нашим симпатичным доктором?
— Да ничего. Работает.
— И все? А отдыхать?
— Ну, Вер, нормальные люди по ТК работают, им так просто отпуск не дают. Обещал приехать к Новому Году. Коплю на Суздаль. Может, удастся взять Машу и куда-нибудь с ней съездить, к Деду Морозу какому-нибудь.
— Думаешь, бывший пустит Маньку с тобой и твоим новым мужиком?

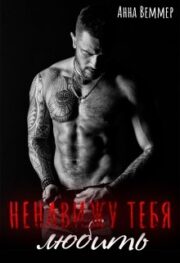
"Ненавижу тебя любить" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ненавижу тебя любить". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ненавижу тебя любить" друзьям в соцсетях.