— А я думала, ты принципиально избегаешь дом.
Опускаюсь в кресло и тру глаза. Врач в больнице, когда подписывал счета на оплату, сочувственно говорил «Поплачьте, это нормально, вам станет легче. Ему было не больно». А мне хотелось его придушить, потому что я понятия не имел, что такое раздирающая изнутри боль, меня не учили ее испытывать, а слезы остались где-то в далеком детстве.
— Ты пропустил ужин. Эльвира расстроилась. Она старалась, между прочим.
— Я задержался.
— Не сомневаюсь.
— Мне плохо, Ксюх… очень…
— Выпей таблетку. — Она поднимается и бросает на диван журнал. — Зачем ты вообще женился, если тебе так плохо возвращаться домой? Я сижу, как идиотка, пытаясь делать вид, что у нас все нормально, а ты пьешь с друзьями и еще жалуешься, что тебе плохо? Я иду спать. В гостевую спальню. Можешь пить дальше, Вова, только посмотри на своего отца — это плохо кончается.
— Да. Ты права. Все это плохо кончается. Хэппи энд не предусмотрен.
Говорят, что если тебя незаслуженно в чем-то обвинили — пойди и заслужи. Поэтому я бреду к бару и даже не вижу, какую бутылку из него беру. Дом погружается в темноту. Единственное, чего я хочу — отключиться и не слышать проклятый, едва уловимый, детский плач.
Мы смотрим друг на друга, и я готов поклясться, что вспоминаем один и тот же вечер. Я не хотел, чтобы она когда-нибудь узнала, я надежно запер воспоминания, сделав вид, будто ребенка никогда не существовало. Будто я всего лишь напился вечером с друзьями и не пришел к ужину. Потом уехал к отцу. А потом вернулся — и мы помирились, буквально через некоторое время узнав, что скоро у нас будет ребенок.
У отца я думал о том, чтобы развестись. А потом решил, что ребенок от Ксюши поможет забыть не случившегося сына. И что стоит хотя бы попробовать создать видимость семьи — таких примеров ведь много…
— Я… я пойду, прости. — Ксюша смотрит с сожалением, смешанным с болью.
Я не знаю, больно ей от того, что у меня был сын, о котором она ничего не знала, или же Вишенка, как и я зачастую, все трагедии примеряет на себя, представляя Машку тем самым ребенком, не пережившим даже первых суток.
Но в последний момент я хватаю ее за руку и притягиваю к себе.
— Погоди… — Голос хриплый, слушается плохо. — Поцелуй меня…
— Нет…
Слабая попытка вырваться пресекается на корню, я запускаю пальцы в ее мягкие волосы, целую, наконец-то пробуя на вкус губы, пахнущие сладким блеском. Две слезинки проливаются на щеки, поцелуй становится соленым. Ксюша обнимает меня за шею, гладит волосы, отвечает на поцелуй — и мир вокруг стремительно меняется, превращаясь в иллюзию.
Сейчас я снова в том вечере, когда в полумраке гостиной на диване сидит жена. Только вместо раздражения и злости я чувствую, как накрывает нежностью, как стальные тиски разжимаются. Я сжимаю в руках тонкую талию, чувствую, как бьется ее сердце, а сам больше всего на свете хочу закрыть глаза, прижать жену к себе и отключиться.
А потом проснуться в идеальном мире. Где у нас двое здоровых детей, две собаки, домик на теплом побережье и вот такие поцелуи. В любой момент, когда становится слишком херово, просто заключаешь ее в объятия и наслаждаешься нежностью, которую на тебя вываливают. Которой тебя никто не учил.
Я с сожалением отрываюсь от ее губ, просто потому что больше не хватает воздуха. Слышу ее жалобный тихий всхлип и готов снова поцеловать, а потом увезти куда-нибудь подальше и продлить иллюзию.
Но, едва Вишенка отступает на пару шагов, я краем глаза вижу движение, а потом… получаю сильный удар в челюсть, от которого отшатываюсь на добрый метр назад.
Совершенно некстати разбирает смех, но я пытаюсь сдержаться, потому что оказывается, у этого интеллигента в халате все-таки есть яйца. По крайней мере, осуждать его за то, что двинул в челюсть мужику, облапавшему его девчонку, нельзя. Зато можно двинуть в ответ, потому что это не его девчонка.
На моем пути неожиданным мини-ураганом встает Ксюха. Жаль, что я не вижу ее лица, зато могу рассмотреть худенькую спинку и аппетитную попу, обтянутую платьем.
— Олег, стой! Хватит!
Судя по виду, Олегу не хватило и, как только он поймет, как отодвинуть с дороги Вишенку, пойдет на второй круг. Что ж, я совсем не против выяснить, чья челюсть крепче. Главное не перестараться… и елку не уронить, на кой хрен в театре такая огромная елка? Нормальные люди подраться толком не могут.
— Хватит, я сказала! — неожиданно твердо говорит Ксения. — Не здесь! Идите на мороз и там развлекайтесь! Сюда люди пришли на спектакль, а не в цирк!
— Но клоуны все равно приперлись, — не могу удержаться я.
— Ты можешь помолчать? — интересуется бывшая.
Иногда могу. Но не в такие моменты, это, может, и нехорошо, но выше моих сил.
К нам уже спешит охранник, а это значит, что драки не будет. Мне везет, что публика сплошь интеллигентная, никто не снимает нас на мобилы, а большая часть уже ушла в зал. А еще везет, что охранник, видя, как я вытираю кровь с губы, обращается к Олегу.
— Покиньте, пожалуйста, помещение, или я буду вынужден вызвать полицию.
Врач бросает на меня презрительный взгляд.
— Ладно. Ладно. Оставайся с ним, раз ты его грудью готова закрывать. Счастливого пути.
Под чутким руководством охранника он забирает из гардероба куртку и напоследок громко хлопает дверью. Бабушка, что сидит у дверей в зал, косится на нас с любопытством и ожиданием, но я не собираюсь досматривать эту муть. Я жду, что сейчас скажет Ксения, потому что сам не знаю, что говорить, а она обычно какие-то слова да находит.
— Прекрасно. Просто прекрасно. Я сдохну в одиночестве, собирая крохотную пенсию на леденец для внуков, которых буду видеть раз в год. Да. Поздравляю, Никольский, это победа!
— Не я вообще-то устроил драку в театре.
Она вдруг морщится, прикладывает пальцы к виску и — возможно, мне кажется — слегка пошатывается.
— Что с тобой? Ты болеешь?
— Нет.
— Беременна?
— Нет. Я не ела с утра. Но даже если бы была беременна, тебе бы не сказала. Иди к своей Татьяне. А я в буфет.
Здесь отвратный буфет: длинное помещение, больше напоминающее какой-то коридор, ряд круглых столиков с невообразимо затасканными диванами и прилавок, на котором нехитрое меню: бутерброды с икрой, бутерброды с колбасой, несколько видов каких-то пирожных и — пожалуй, единственное, что привлекает внимание — мороженое, которое прямо при тебе окунают в шоколадную глазурь.
Я бы с куда большим удовольствием поужинал в каком-нибудь ресторанчике, но, если предложу это Вишенке, то поужинаю… в гордом одиночестве. А она голодная потащится на метро. И вообще, какого хрена она не ест? Я думал, у нее все нормально с заказами. Хотя нет, я не думал, я, мать ее, знал, что у нее все нормально с заказами.
— Сядь, — говорю ей, оттесняя от прилавка.
— Сам сядь.
— Ксюха, не зли меня, сядь и жди еду. Давай, не надо устраивать сцены, когда мужик хочет тебя накормить. Что ты будешь?
— Бутерброд. С икрой. Три! — почти рявкает она и, чеканя шаг, идет к одному из столиков, где и сидит, надув губы, пока я делаю заказ.
— Два кофе, один с молоком, второй без, оба без сахара. Четыре бутерброда с икрой, один с ветчиной и мороженое.
— Одно?
— Одно. Сдачи не надо. И принесите вон за тот столик.
— Мужчина-а-а, мы не официа-а-анты.
— А кто вы, бля? Буфетье? Буфет-менеджеры? Буфетчендайзеры? Ладно, сам отнесу. Тогда сдача отменяется, давай сюда. А еще лучше по безналу.
Лицо буфетчицы багровеет. И чаевые отменились, и леваком не сделать. А я беру поднос с едой и несу его к столику, попутно размышляя, что если вдруг совсем припрет, пойду в официанты. Хрен у меня кто уйдет не заплатив.
Удовольствие, с которым Ксюша вгрызается в бутерброд, заметно невооруженным глазом. Я не голоден, но при виде нее чувствую, что тоже не прочь что-нибудь перекусить, даже если это «что-нибудь» — всего лишь кусок хлеба и тоненький слой красной икры.
— Значит, ребенок, — медленно произносит она, жуя. Смотрит в одну точку и задумчиво проводит кончиком пальца по ободку пластиковой кружки с кофе. — И что бы ты сделал, если бы он остался жив?
— Я не знаю, Ксюх. О чем ты думаешь, когда Маша болеет? Уж точно ни о чем, кроме нее. Сейчас я могу тебе придумать сотню вариантов, но как бы поступил, я не знаю. Если бы Даша умерла, наверное, попробовал тебе рассказать и… не знаю. Может…
Она вскидывает голову.
— Может что? Может, мы бы его воспитали, как своего? Вместе с Машей? Ребенка от любовницы, с которой ты за моей спиной… потрясающе! Или что, скажешь, что это было до меня, и потому ты святой?
Кошусь на буфетчицу, которая от любопытства скоро перевалится через прилавок. К счастью, она слишком далеко от нас, поэтому есть шанс, что в случае такой неприятности нас не засыплет икрой, хлебом и обломками деревянной стойки.
— Это было не до тебя. Мы с Дашей познакомились, когда мы только пару раз сходили на свидание.
— И что же ты тогда не женился?
— Я предлагал. Даша отказалась, твой отец заплатил ей и припугнул, чтобы уехала из города. Я хотел на ней жениться, она отказалась, и…
— И ты женился на мне.
— После свадьбы я к ней не прикасался.
— Мне полегчало.
— Я не святой. Далеко не святой. И было всякое. Но с Дашей все кончилось в тот момент, когда умер Димка. Дашка не заслуживала такой смерти, я сначала думал, она просто окончательно поехала крышей и снова сбежала, а потом ее нашли… и твой отец признался, что он ее убил, когда я припер его к стенке. Оказалось сложно отделить тебя от него. Он часто прикрывался твоим именем, любовью к тебе.

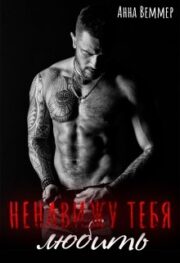
"Ненавижу тебя любить" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ненавижу тебя любить". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ненавижу тебя любить" друзьям в соцсетях.