Миссис Бэбкок чувствовала, что в словах дочери есть доля истины. Где-то она допустила ошибку. Она так долго удовлетворяла потребности этих неблагодарных людей — своей семьи, — что быть необходимой превратилось в ее главную цель. Чем еще можно объяснить ту депрессию, которая стала мучить ее после того, как дети покинули дом? Она искала причину то в одном, то в другом, а все дело было в том, что она ощущала свою ненужность до такой степени, что не хотелось жить.
Где же она споткнулась? Когда? Когда вышла замуж за Уэсли? Возможно. Она могла подождать, пока не получит степень преподавателя истории, которой очень интересовалась. Но что оставалось делать, если Уэсли уходил на войну и рисковал быть убитым? В то сумасшедшее время все словно с цепи сорвались: заключались самые невероятные браки; словно желая заменить тех, кто может погибнуть, рождались дети; вот и она поспешила выйти замуж, а через десять месяцев родился Карл. Она колесила с ним вслед за Уэсли по военным базам страны, пока через год в Халлспорте не родилась Джинни. Ей было два месяца, когда мужа отправили во Францию. Каждую ночь часа в три девочка просыпалась и безутешно плакала. Единственное, чем можно было ее успокоить, — это взять на руки и петь колыбельную. Она цеплялась за мать, как маленькая обезьянка, и сразу начинала кричать, стоило той сесть или лечь. Тогда просыпался Карл, и двое оставшихся без отца малышей орали наперебой до рассвета.
Измученная недосыпанием, она металась от надежды к отчаянию, следила за военными сводками и каждый день ждала — часто напрасно — писем от Уэсли. Вот тогда она и превратилась в оцепеневшего робота. Ее собственные желания не имели значения. Существовали только двое беспомощных малюток, нуждавшихся в ней, чтобы выжить в этом хаосе. И она пела, играла и каталась с ними на полу хижины, хотя больше всего ей хотелось остаться одной, чтобы выплакаться или перечитать пять писем Уэсли. А потом ей уже не хотелось и плакать.
Джинни права. Миссис Бэбкок знала, что она — мученица. В те несчастливые военные годы детские потребности поглотили ее собственные, а когда война закончилась, она отвыкла от мыслей о себе и не возвращалась к ним долгие годы — пока не осталась одна. Вернулся Уэсли, а у нее, изнуренной бессонницей и заботами, не было сил даже думать о сексе, и они часто ссорились из-за всякой чепухи. А однажды она чуть не сорвалась — когда занесла над головой Карла тяжелое пресс-папье только за то, что он повадился съезжать по перилам, таща на поводке собаку. Ей стало страшно, и она ухватилась за мысль о смерти — как о спасении. Она навестила свою мать и рассказала о своем отчаянии. Та холодно посмотрела на нее: «Ты должна исполнять свой долг, дорогая». И она исполняла.
А теперь она здесь — одна, больная, никому не нужная после стольких лет самоотречения. Дети и Уэсли не были виноваты; виновата только она сама. Джинни, похоже, сама будет решать, сколько иметь детей и как их воспитывать. Уж она-то не принесет себя в жертву.
Джинни сидела, закрыв глаза, не в силах ни извиниться, ни снова ринуться в атаку. Самое беспощадное оружие матери — чувство вины — парализовало ее. Каждое слово матери было правдой. Она действительно прислуживала им много лет, не требуя благодарности, но это не значило, что они не ценили ее. Дело не в этом. Неважно, что Джинни жила далеко от дома; она просто была уверена, что мать не одобряет ее образ жизни, и поэтому не стремилась встречаться с ней. Жена Айры, мать Венди — это мать одобряла. Но с этим ведь было покончено…
Она вспомнила свое последнее Рождество в Халлспорте — почти за год до того, как уехала в Бостон. Карл и Джим приехали на каникулы. Мать весело суетилась: гирлянды, елка, подарки, стряпня — все сама. В сочельник у них на столе всегда был традиционный гусь, гарнир и пудинг с изюмом. Майор лежал наверху с мигренью. После обеда они вернулись в гостиную и спели перед камином гимн. В тот год каждый из детей спешил на свидание, мысли были заняты другим, и гимн звучал совсем не так, как положено. Джинни предвкушала петтинг с Клемом, Карл мечтал о какой-то девушке, ждущей его на церковной площади, Джиму тоже не терпелось поскорее удрать, и неожиданно дети рассмеялись. Они не знали, почему смеются. Наверное, им было смешно, что взрослые современные люди должны придерживаться бессмысленных традиций. Мать тихо заплакала. Они постепенно успокоились, но не нашли ничего лучшего, как выскользнуть потихоньку, оставив ее одну. Мать не знала, как разрешить им уйти, а они не представляли, как уйти, не обидев ее…
— Фогель не сказал, что ты умираешь, мама, — пробормотала Джинни.
Миссис Бэбкок промолчала.
— Мне уйти?
Мать протянула руку и взяла с тумбочки белые таблетки.
— Который час?
— Около семи.
— Я совсем потеряла чувство времени.
— Я принесу часы.
Немного погодя Джинни рассказала ей о стрижах.
— Как ты думаешь, что мне с ними делать?
Миссис Бэбкок вздрогнула. Неужели кому-то интересно ее мнение?
— Не знаю… Когда вы были маленькими, птенцы тоже выпадали из гнезд. Их подбирали кошки, а вы плакали и кричали, что природа несправедлива. А мне было нечем вас утешить, потому что я тоже не понимала, в чем виноваты птенцы. — Мать помолчала. — Помнишь нашу рыжую кошку Молли? Тебе было лет шесть, когда мы ее взяли. Однажды ты увидела ее с крошечной головкой птенца в зубах. Ты швыряла в нее палки и плакала. Я не знала, как тебя успокоить, и сказала, что вся жизнь состоит из несправедливостей. Ты не разговаривала со мной тогда несколько дней. А родители-стрижи не пытались их покормить?
— Думаю, нет.
— Неужели спокойно сидят на трубе и смотрят, как их дети умирают с голоду?
— Похоже на то. — Джинни удивилась, что мать тоже возмущает такое поведение птиц.
— Их нужно пристрелить!
— Согласна. Но я не знаю, что делать. У птиц свои законы.
— В книжном шкафу у камина есть книга о птицах. Может, найдешь что-нибудь.
Они продолжали болтать, будто не было никакой ссоры, пока мисс Старгилл не принесла снотворное.
Проезжая мимо дома Клема, Джинни привычно посигналила. От дерева кто-то отделился и вышел на дорожку.
— Я слышал, что ты вернулась, — приветствовал ее Клем. — Иначе бы не узнал. — Он кивнул на ее деревенское платье.
— Закончил работу?
— Да. Припозднился немного. Мой работник заболел.
— Говорят, твоя ферма процветает?
— Самая высокая продуктивность в штате! Я только на молоке заработал восемнадцать тысяч долларов, — горделиво сказал он и смахнул тыльной стороной руки бисеринки пота с нижней губы.
— Молодчина! Ты знаешь, что моя мать в больнице?
— Да, слышал. Очень жаль. У нее был трудный год. Молю Бога, чтобы она поскорей вернулась. Как она?
«Молю Бога?» И это Клем, первый хулиган во всей Халлспортской средней школе?
— Точно не знаю. У нее это уже было, и она выкарабкивалась. Не понимаю, почему так плохо на этот раз. Выглядит она ужасно, но, по-моему, выздоравливает.
— Почему бы тебе не зайти не поболтать с Максин?
— Только на минутку, а то тебе рано вставать.
Ничего не видя от яркого света, Джинни почувствовала, как Максин схватила ее и прижала к огромной груди. Глаза постепенно смогли снова видеть, и она рассмотрела подругу. Максин заметно постарела. Мощные груди свисали почти до талии, но между ними по-прежнему висел золотой крестик. Бывают женщины, которые, полнея, выглядят просто толстыми, а бывают такие, которым полнота придает чувственности и сердечности. Максин принадлежала ко вторым. Рядом с ней Клем казался совсем тщедушным. Но его лицо… Всегда насмешливое, напряженное, оно смягчилось и подобрело. А главное — он не хромал. Джинни так хорошо знала его, что совсем не замечала искалеченную ногу и ковыляющую походку, но теперь… он действительно не хромал. Она осторожно опустила глаза: левый сапог имел нормальную подошву, а правый больше не был вывернут наружу. Что же произошло?
На столе уже дымился ужин. Трое темноволосых ребятишек с чертами мелангеонов уселись на свои места. Спрашивать о происшедшем чуде было не время.
— Поешь с нами, — уговаривала Максин.
— Спасибо, я уже ела. Мне нужно кое-что сделать в хижине, пока не стемнело. Но я вернусь.
— Только обязательно! — приказала Максин.
Глава 7
Материал для Уорсли.
Через несколько недель после падения с «харлея» я пришла в себя. В окно ярко светило солнце; я лежала неподвижно — вся в бинтах, с подвешенными к блокам руками и ногами. Все это время я была без сознания — спящая красавица, вернувшаяся к жизни.
Клема ко мне не пускали. И очень кстати: я была крайне занята. Майор, воспользовавшись моей беспомощностью, заставил написать заявление в университет. На вопрос: «Почему вы хотите поступить в Уорсли?» — я ответила: «Я никуда не хочу поступать. Меня держат в больнице, как в плену, и заставляют учиться».
Из Уорсли очень быстро пришел ответ: «Приглашаем вас на собеседование. С удовольствием прочитали ваше оригинальное заявление». Но не успела я сжевать и проглотить письмо, как майор выхватил его у меня из рук. Как только я смогла сидеть на своей ободранной заднице, он повез меня в Бостон.
В знак протеста я вырядилась в черную узкую юбку и кофту, вызывающе подчеркивающую острую грудь, красную ветровку Клема с восточным драконом на спине, рваные чулки — я еле отыскала их в мамином комоде, — черные балетные тапочки и серебряный браслет с именем Клема.
Мисс Хед уставилась на меня так, словно перед ней — ожившее произведение искусства восемнадцатого века. Она рассматривала меня, я — ее. У моей будущей наставницы были вьющиеся, тронутые сединой волосы, собранные сзади в тугой пучок. На мертвенно-бледном лице выделялись роговые очки с цепочкой: они рискованно подпрыгивали на носу, когда она говорила.

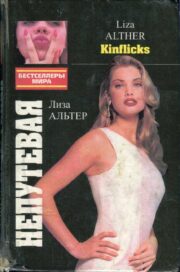
"Непутевая" отзывы
Отзывы читателей о книге "Непутевая". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Непутевая" друзьям в соцсетях.