Тетя Лёля собирала на стол и велела мне не путаться под ногами. Я курила на балконе и рассматривала рисунки Кати, а она стояла рядом, положив свою короткую ручку мне на плечо. Я импульсивно обняла девочку и прижала к себе. Она не прильнула ко мне, как к бабушке, стояла спокойно, словно кукла. Как все это пережить?
Еще я рассматривала фотографии Гранады, мавританских садов и чертогов, поникшую печальную чайную розу на длинном стебле, другие города и книжку про архитектора Гауди, неистового фантазера, который понастроил черт-те какие дома и грандиозный собор. Домой возвращалась умиротворенная, успокоенная.
Послезавтра приедет Валька! Люша! Так называла ее Муза. Валюша – Люша.
Валька знает обо мне и моих родных все, она понимает, откуда ноги растут, откуда уши торчат, где какой скелет припрятан, ей ничего объяснять не надо, ведь мы вместе выросли, за одной партой сидели. Она знала, что Муза бросила моего отца, что временный мужчина был ей дороже дочери, что она дважды запихивала меня в «лесную школу», вместо того чтобы выхаживать больного ребенка самой, и прочее разное.
Валька вместе со мной негодовала, возмущалась Музой, она сопереживала мне и одновременно любила ее. И первое, и последнее очень для меня важно. Валька восхищалась внешностью Музы, ее нарядами, духами, легкостью характера, умением перешить платье и сделать из старья новье, из ничего приготовить праздничный ужин, и легкомыслие Музы называла легкостью характера. Ей нравилось, как она поет, как говорит и ведет себя, она балдела от россказней Музы о ее жизни, а особенно о детстве, многие из которых, как выяснялось впоследствии, были весьма фантастического свойства. В Валькином доме из книг была только поваренная, так что читать хорошие книги ее научила тоже Муза, она же отправляла нас в музеи, но главное, что Валька благодарно впитывала при общении с ней – женственность. Удивительно, что я шью и готовлю (жизнь заставила!), ведь все, чему можно было научиться от Музы, я отвергала. Я гордилась Музой, страдала, любила и ненавидела ее. Я не простила ей своего детства.
Валька утверждала, что Муза научила ее не унывать. Она, и правда, никогда не унывает, а если унывает, не признается. Это у меня главные качества – обижаться и жаловаться, у Вальки другой девиз. Замужем она была один раз и больше не собирается, хотя с мужем сохранила добрые отношения. И не просто добрые, при разводе он ей комнату оставил, а когда три года назад умерла Валькина мать, она продала свою и родительскую комнаты и купила квартиру.
Когда Валька узнала, что у нее не будет детей, она была в шоке, но ничего, справилась. Она утверждала, что единственным человеком, который ее образумил, была Муза. Она не ахала, не жалела, жилетку не предлагала, она посоветовала посмотреть по сторонам и сравнить Валькино несчастье с несчастьем матерей, которые получают сыновей в свинцовых гробах. Она велела спокойно принять то, что уготовано. А еще она сказала, что родить – не большая заслуга, и если Вальку начнут раздирать материнские инстинкты, пусть идет в детский дом и усыновит малютку.
Также Валька утверждала, что нашла поддержку у Музы, когда потеряла работу. Муза сказала: извлеки из этой потери пользу, ты же ненавидела свою работу, попробуй заняться тем, что тебе нравится. Очень возможно, что потеря работы – подарок, который преподнесла тебе судьба. Валька считает, что благодаря Музе обрела уверенность в себе. Она поступила лаборанткой в туристический колледж, а через несколько лет стала преподавать там математику, и это ей нравится.
Интересно, почему же Муза не вселила в меня уверенность и ничему не научила? Почему ее бесценные советы прошли мимо меня?
Наши с Музой подруги – тетя Лёля и Валька – похожи своим жизнелюбием. И кроме них, уже не осталось людей, которые бы знали и любили несчастную идиотку Музу.
9
Вечером звонок телефона. Женский голос спрашивает Музу Николаевну. Я напряглась. Нет ее, она в больнице, а кто ее спрашивает. Оказалось, Канунникова, которая написала статью о моей бабушке в большой роскошной книге «Русский авангард», составила буклетик к выставке в ЛОСХе и тиснула статейку в журнале «Искусство Ленинграда». Помню ли я ее? Разумеется, помню, а вот она меня – нет. Она общалась с Музой. Спрашивает, как мое имя. Мы с ней тезки.
Дело у Канунниковой такое: пишет о бабушке монографию, хочет встретиться, если не с Музой, то со мной. Ее интересует архив: фотографии, письма и, конечно, картины и графика, какие есть у нас дома, чтобы фотографировать их, сканировать и пр., пр. Я сказала, что картин осталось мало, все остальное надо искать, и сейчас наша встреча невозможна, потому что я каждый день в больнице. Она уговаривала меня, настаивала, она, видите ли, через месяц уезжает в Лондон. Там она будет работать. Ё-к-л-м-н! Для этого нужно ехать в Лондон?
Нет, в Лондон она едет к мужу, там у нее второй дом. Еще она хочет предупредить, что дала наш телефон директору Музея фотографии, который тоже желает встретиться на предмет дедушкиных фотографий для выставки. А у нас и нет его фотографий, если только разрозненные, случайные, он же с бабушкой разошелся еще до войны и жил со второй женой, а детей у них не было. Куда делся его архив, понятия не имею, и Муза – я некстати усмехаюсь – вряд ли имеет понятие.
Канунникова дико извиняется, опять упрашивает меня встретиться, собирается позвонить через несколько дней и оставляет свой телефон. Повесив трубку, я вспоминаю, что на антресолях стоят несколько старых посылочных ящиков со стеклянными пластинками – негативами.
Какая странная закономерность: то полный застой в жизни, а то навалится все сразу. Если бы завал равномерно распределить на все время, была бы гармонично насыщенная жизнь.
Встречаться с Канунниковой, не упорядочив архив, бессмысленно. И не думаю, что я смогла бы его разобрать за месяц, если бы даже была свободна от забот о Музе. В понедельник я привезу ее домой, и разборка архива окажется совсем невозможной. То, что я называю архивом, сосредоточено в основном в огромном комоде, нижних ящиках гардероба и в письменном столе. И если бы я, паче чаянья, стала в них копаться, Муза, пребывай она даже в коме, тут же вышла бы из нее. Пока она жива, она не подпустит меня к архиву. А вообще-то мне страшно подумать, что надо во всем этом разбираться. Если бы кто-то сделал это за меня, я бы не возражала. Но некому! Муза способна только навредить.
История с семейными фотографиями, которые она зачем-то подарила соседке, меня просто повергла в шок. Но и раньше, будучи с своем уме, она многое разбазарила. И нет прощения Юрику-мазурику, при содействии которого были проданы многие холсты. Хотя я толком не знаю, что именно было продано. За шкафом у Музы стоял тубус со скатанными в толстый рулон полотнами, а теперь рулон стал совсем худенький. И на антресолях были полотна на подрамниках, а потом там посвободнело. Кому все это продано, я тоже не знаю.
Юрик, конечно, был не совсем дурак, и уж если говорить непредвзято, не был он никаким мазуриком, и альфонсом не был, и самое удивительное – он любил Музу. Я понимаю, что бывают геронтофилы, но… не понимаю. Игорь говорил, что в возрасте Музы разве что прямой кишкой по паркету стучать. Ну, это уж от природы зависит, кому кишкой стучать, кому любовников иметь. В таком, мягко скажем, преклонном возрасте, Муза держала при себе почти шесть лет молодого мужчину, и подвигом для нее это не было, это было жизнью. Любовник бегал вокруг нее, как резвый козел, в ванне ее мыл, цветы приносил, Масяничкой звал. Что-то он зарабатывал, Муза пенсию получала, но, наверное, им не хватало, они и проматывали потихоньку бабушкино наследство. А то, что Юрик любил Музу, это правда, это не сымитируешь. На меня Иванченко в молодости так не смотрел, как он на старуху. И медленный, постепенный съезд крыши у Музы начался после того, как Юрик ее покинул.
Я бегала из кухни в комнату и курила-курила-курила. Наверное, я чокнулась! Я любила оплакивать свою бессмысленную жизнь. А теперь, когда мне представился шанс наполнить ее смыслом, причем высшим смыслом, не бытовым, я отказываюсь это сделать и даже сопротивляюсь. Я чувствовала себя сволочью. Разве я не хочу, чтобы вышла отдельная книжка о бабушке?! Разве для меня не важно, чтобы эта книжка получилась как можно лучше? Я должна помочь Канунниковой. Это мой долг.
Моя бабушка родилась в начале века, у нее были самые необыкновенные и знаменитые учителя. В начале двадцатых годов она поступила в училище Штиглица (в то время оно называлось иначе, какой-то уродливой аббревиатурой), а через год его соединили с Академией художеств, причем штигличане здесь оказались левым крылом, академисты – правым. В Академии бабушка училась у Матюшина, у которого была своя идея цвета – ЗОРВЕД, то есть «зрение-ведание». Основой живописи он считал сияние красок и утверждал, будто это сияние видит лишь чистый душой человек. Не знаю, как восприняла теорию бабушка, у нее действительно есть сияющие картины, но в картинах самого Матюшина никакого сияния я не узрела (впрочем, видела не слишком много, да и краски с годами тускнеют).
Этот учитель был знаменит, но два других вообще столпы авангарда и почитаются великими. Один из них – создатель аналитического искусства Филонов. В Академии он преподавал для желающих целое лето (по нашему это назвали бы, наверное, факультатив), группа собралась небольшая, человек десять, включая бабушку. У Филонова тоже была своя художественная идея и принципы. Все сущее он раскладывал на атомы, а потом собирал до кучи. Такой вот анатом. Но членом его объединения МАИ – Мастера Аналитического Искусства – бабушка, насколько мне известно, не была.
Еще один учитель – антипод Филонова, отец супрематизма – Малевич, который, отрицая предметность в живописи, рисовал всякую геометрическую предметность, как-то: круги, квадраты, кресты и пр.
В тридцать пятом году Малевич умер, художественные группировки тоже умерли, зато родился единый Союз художников – ЛОСХ, и началась борьба с формализмом. Кому-то подрезали крылья, кого-то жизни лишили. А бабушка ушла в подполье, не совалась никуда. Она работала в детских журналах и в детском издательстве, делала альбомы аппликаций и выкроек для шитья, рисовала картинки учебников для северных народов, в Театре кукол была главным художником, уже после войны оформляла спектакли в оперных театрах Тбилиси, Таллина и Риги.

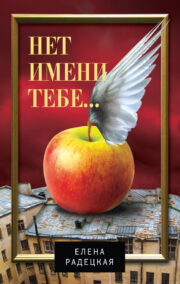
"Нет имени тебе…" отзывы
Отзывы читателей о книге "Нет имени тебе…". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Нет имени тебе…" друзьям в соцсетях.