АПЕЛЬСИНЫ К РОЖДЕСТВУ
31
Неожиданно маленькая беленькая квартирка моей бабули становится для нее очень большой. В ней вдруг обнаруживается масса препятствий и ловушек, которые напоминают о том, что убивает человека все же не старость. Человека убивает болезнь.
Ступеньки лестницы, ведущие на второй этаж, где находится квартира бабушки, внезапно становятся чересчур крутыми и высокими. Ей приходится останавливаться несколько раз, чтобы отдышаться. При этом она жадно хватает ртом воздух. Ванна тоже оказывается почти недоступной, и, чтобы забраться в нее, бабушке уже требуется посторонняя помощь. Вот поэтому моя мама, Изюмка или кто-нибудь из соседок бабули (а у нее все соседи — женщины) приходят к ней, чтобы помочь сначала залезть в ванну, а потом выбраться из нее. Кроме того, в дом к моей бабушке начинают стучаться все те бюрократы, которые лишний раз напоминают своим присутствием о серьезности ее заболевания. Ее навещает бодрая, жизнерадостная окружная медсестра, которая быстро организует доставку пищи на дом раз в день, а также привозит старенький кислородный баллон, который теперь стоит возле бабушкиного любимого кресла.
Моя бабуля, конечно, хочет сделать что-нибудь приятное этой медсестре, так же как ей всегда хочется угодить окружающим людям. Она понимает, что они от всей души стараются ей помочь и облегчить жизнь. Но все же бабуле очень не нравится здоровенный шкаф, который приволокли в ее крохотную квартирку социальные работники. («Он мне, конечно, вообще-то не нужен, милочка, но все равно большое спасибо за такое беспокойство».) Нечего говорить и об отвратительных бесплатных обедах, которые ежедневно привозят в рамках социальной программы помощи престарелым. Она к этой еде даже не притрагивается. («Лучше я попью чайку с тостами, дорогуша».) Ну а баллон с кислородом вообще никак не помогает ей во время приступов удушья. («Мне кажется, что он уже давно пустой, любовь моя».)
Но бабушка продолжает крепиться. Она встречается с подружками, чтобы выпить чашечку кофе или чая с печеньем, и они подолгу беседуют. Главной целью данных посиделок является общение, бесценное человеческое общение. По воскресеньям бабушка выбирается к моей матери на обед и упорно каждый день отправляется в местный магазин, чтобы купить себе самого необходимого. Сюда входят белый хлеб и кусок ветчины, которые, кажется, и составляют все ее меню. Не считая, конечно, моря чая и горы печенья.
Проходит какое-то время, и бабушка начинает чувствовать слабость в ногах. Тогда социальная работница предоставляет ей бесплатную трость. Бабушка закатывает глаза при виде этой штуковины. Неужели все настолько серьезно? Она начинает ловко размахивать палкой, крутить ею так и этак, пародируя беспомощную старушку, что в ее состоянии выглядит чудаковато, но, в общем-то, даже забавно.
— Ну, я еще хорошо помню старые добрые времена, — заявляет она, покачивая тростью, и мы все, включая социальную работницу, весело смеемся.
Моя бабуля встречает рак точно так же, как она раньше встречала саму жизнь, — изящно, стойко и с неизменным чувством юмора. Как она любит говорить: «Не надо суетиться».
Невзирая на жуткую боль в боку и участившиеся приступы удушья, жизнь у бабули, похоже, несколько стабилизировалась. По утрам она неизменно ходит по магазинам, днем выполняет несложную домашнюю работу, а по вечерам смотрит любимые телевизионные передачи, которые по-прежнему обводит в программе синей ручкой. От этих маленьких кружочков мое сердце болезненно сжимается.
Но в ходе этой относительно спокойной и размеренной жизни я замечаю нечто необычное. Люди, которые всегда любили мою бабулю, теперь готовы ради нее на многое.
Разумеется, мои отец и мать навещают ее каждый день. Правда, приходить стараются все же в разное время. Бабулю не забывают и многочисленные старушки, ее нынешние соседки и соседки по нашему старому дому, тому самому, где вырос мой отец и где он потом написал свою книгу. Это те старые подруги из прошлой жизни, из тех времен, когда дети еще не выросли, а мужья не умерли и никакие врачи-специалисты не ставили вам смертельный диагноз.
И конечно, у бабушки еще появилась Изюмка. Среди всех посетителей сразу же выделяется эта неуклюжая девочка, которой каким-то образом удалось установить с моей бабушкой крепкую связь. Не обращая внимания на длительные поездки из Банстеда в Лондон и обратно, Изюмка ежедневно приезжает к моей бабуле, и они вместе смотрят телепередачи, обведенные синей ручкой. Кроме того, они следят за победными боями Скалы и по телевизору, и на специальных видеокассетах. Изюмка держит бабушкину ладонь, гладит ее по волосам, расчесывает их с такой нежностью, будто именно эта старушка и представляет собой для нее самое дорогое, что только есть на этой планете.
Окружная медсестра и социальная работница заглядывают в маленькую квартирку раз в неделю, но я не знаю, как бы нам удавалось справляться, если бы бабушку не любили так сильно ее подруги — и старые, и новые, все те, с кем ей когда-либо приходилось сталкиваться в жизни. Если бы нам пришлось полагаться только на доброту местных властей, мы, наверное, очень скоро оказались бы в весьма незавидном положении.
Потому что наступает такое время, когда бабушке уже нельзя оставаться одной. Кто-то должен находиться с ней все время. Мы все прекрасно понимаем, что она может потерять сознание в любую минуту. Бабуля все еще считает, что она так внезапно «засыпает», но врач, который приходит к ней, пояснил, что обмороки случаются из-за нехватки кислорода в мозге.
Как-то вечером я сижу рядом с ней и вдруг понимаю, что бабуля перестала комментировать выпуск новостей своими обычными «смехотворно» и «отвратительно», а глаза у нее постепенно закрываются. В следующий момент голова ее клонится, челюсть отвисает, и она начинает заваливаться вперед, в сторону камина. Но прежде чем я успеваю отреагировать на происходящее, Изюмка бросается к ней, подхватывает бабушку и очень осторожно усаживает ее снова в кресло.
Проходит какое-то время, и мы начинаем воспринимать ее приступы как нечто само собой разумеющееся, как часть нашей обычной жизни. И сама бабуля лишь отмахивается при воспоминаниях о них, считая, что нет такого недуга, который не мог бы вылечить хороший ночной сон.
В учительской Международной школы иностранных языков Черчилля пусто. Еще очень рано. Парочка студентов шатается по улице возле входа, но наверх пока никто не поднялся. Я небрежно швыряю свою сумку на журнальный столик, и с него порывом ветерка срывает какую-то яркую листовку. Но это не реклама нашей школы. Я поднимаю ее с пола и читаю: «Счастливая уборщица. Уборка и чистка старомодными способами. Делаем все своими руками».
Тут еще имеется рисунок тушью: домохозяйка в стиле пятидесятых годов держит пушистую перьевую пуховку для вытирания пыли. Женщина кажется мне симпатичной и какой-то домашней. Ну, как Саманта в сериале «Зачарованные». Чуть ниже напечатаны два телефонных номера: один явно не лондонский, а другой — мобильный. Разумеется, я узнаю оба.
В комнате напротив, в кабинете Лайзы Смит, гудит пылесос. Джеки занимается старым потертым ковром, стараясь, насколько это вообще возможно, его реанимировать.
— Что бы это значило? — интересуюсь я, помахивая листовкой.
Джеки лучезарно улыбается:
— А разве я тебе еще ничего не говорила? Мой бизнес процветает. Я уже, кажется, весь район снабдила своими рекламами. Ну и сюда решила положить несколько штук, раз уж тут работаю.
Она кажется мне какой-то слишком уж радостной. Непонятно только почему.
— Значит, ты действительно считаешь себя счастливой уборщицей? — хмыкаю я.
Она перестает улыбаться:
— А что тут плохого? Даже если у меня появится много заказов, это никак не повлияет на наши занятия. Ты ведь не против?
— А почему я должен быть против?
— Не знаю. Но теперь я точно вижу, что тебе эта затея не нравится. Что случилось?
Я и сам толком не могу объяснить.
Я сознаю, что мне неприятно видеть, как она убирается в школе. Как она «старомодными способами», при помощи собственных рук, драит полы и отскребает от них всякую дрянь. Мне не нравится, что и преподаватели, и ученики даже не замечают ее, как будто она для них — так, пустое место. И кстати, мне вовсе не приятно, что она работает на чопорных снобов на Корк-стрит. Да и не только там, будь это где угодно, мне все равно пришлось бы не по душе.
Но я и сам не знаю, чего желаю. Наверное, чтобы Джеки занималась более достойным делом. Я совершенно четко знаю, что мне не хочется, чтобы она работала здесь. Уже не хочется.
— Ну, все эти уборки. Не знаю. Они меня расстраивают, что ли.
Она смеется:
— Тебя? Расстраивают? А тебе-то до них какое дело? И если уж я сама не расстраиваюсь, почему тебя это должно так волновать? Мне казалось, что в уборке нет ничего недостойного.
— Совершенно верно.
— И что любой труд благороден.
— Разумеется. Я имел в виду другое. Я же не говорил тебе, что считаю уборку помещений неблагородным занятием.
— Но ты утверждал, что в том, чем я занимаюсь, ничего позорного нет.
— Верно.
— И все равно тебе за меня стыдно.
— Ничего подобного. Я просто хочу, чтобы ты занималась чем-нибудь другим. Ну, нашла для себя работу получше, чем то, что тебе приходится делать сейчас. Я хочу, чтобы ты перестала чистить унитаз, в который только что помочился Ленни. Но постыдного тут, конечно, ничего нет и быть не может.
— Ну, не знаю. Мне кажется, тебе за меня стыдно.
— Смешно слышать! Но мне, наверное, просто неприятно видеть тебя в этой школе. Почему именно здесь, где работаю я?
— Мне приходится соглашаться на любые предложения, в какое бы место меня ни позвали. Мне нужно зарабатывать на жизнь, чтобы иметь возможность оплачивать собственные счета. По-моему, все предельно ясно. Я же не могу рассчитывать на мифического мужчину, который содержал бы меня и заботился о нас с дочерью.

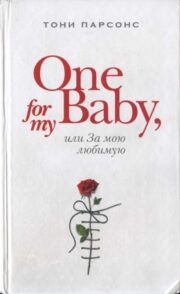
"One for My Baby, или За мою любимую" отзывы
Отзывы читателей о книге "One for My Baby, или За мою любимую". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "One for My Baby, или За мою любимую" друзьям в соцсетях.