Он мучился своим бессилием. Что делать? Что делать? Как прикрепить к себе эти оба существа, вокруг которых, подобно плющу, обвилась его жизнь? Ему одинаково необходимы эти обе женщины.
Он никогда не в силах будет присутствовать на свадьбе Клары. Никогда он не в состоянии будет жить с Жюли, раз Клара выйдет замуж. Так что же делать?
Столкновение прохожих и экипажей на углу улицы привело его в себя.
«Где я?»
Ему надо было несколько секунд для того, чтобы опомниться. Он стоял на перекрестке бульвара Гаусман, улицы Троше и улицы Обер. Омнибусы, фиакры, нагруженные багажем, ехали со станции Saint-Lazare к улице Гавр; другие везли озабоченных путешественников, посматривавших на часы… Уехать! Путешествовать! Уехать, чтобы быть одному, не видеть больше ни Жюли, ни Клары, ни Рие, никого! Ему страстно захотелось уединения. Но всякий отъезд вещь сложная. Хотя бы и можно было располагать собою, но надо предупредить других, надо отвечать на вопросы, придумать причину. Как сделать, чтобы не возбудить подозрений даже в равнодушных людях?
«Антуан Сюржер еще не вернулся из Люксембурга, но Эскье… Что сказать ему?… А главное, как найти уважительную причину для того, чтобы уверить Жюли? Есть только одна возможная, это здоровье…»
Он тотчас же решился.
«Надо повидаться с Домье».
Он тросточкой сделал знак фиакру, поворачивавшему за угол улицы Тронше.
- В главный госпиталь, - сказал он садясь.
Чахлые деревца, серые фасады домов, неуклюжая архитектура собора Мадлен - мелькали сквозь стекла кареты. Потом въехали на улицу Royale, среди массы экипажей с нарядными дамами в светлых, темных, белых, бледно-розовых туалетах. Заходящее солнце бросало на все красноватый оттенок, когда он въехал на площадь Согласия с открытым видом на аллеи, с двумя монументальными статуями, стоящими одна против другой, с серыми шпицами Sainte-Clotilde, уходящими в эту пурпуровую высь.
В смущенной душе Мориса вставали воспоминания лучших месяцев, проведенных им с матерью в Париже. Он видел себя едущим в виктории к Булонскому лесу среди массы карет; рядом с ним сидит его красавица-мать…
С какой ясной горделивостью смотрел он тогда на жизнь! У него было хорошее состояние, ему казалось, что стоит только протянуть руку, чтобы завладеть любовью, славой.
«Теперь все погребено, - с горечью думал он - Я потерял мое состояние. Моя жизнь созрела в любви. Что же касается до артистического честолюбия, то я отказался от него, я даже не мечтаю о нем».
Он стал обвинять Жюли и в потере состояния, и в своей бесполезной жизни… В то время, как фиакр катился по берегу Сены, он мрачно думал:
«Счастье состоит не в том, чтобы мечтать на груди женщины и позволять ласкать себя, как ребенка. Я старался в этой нежности, изо дня в день, живя полусчастьем».
Но фиакр, проехав мимо решеток Винного рынка и Ботанического сада, после нескольких поворотов остановился на примятой ногами площадке, обсаженной жалкими деревцами, что несколько удивляло в этом уголке Парижа, невдалеке от бульвара.
Морис вышел из экипажа и торопливо вошел в дверь госпиталя.
Он уже раз был в этом знаменитом учреждении. Это было давно; он приходил сюда ребенком, вместе с отцом. Он очень забавлялся тогда голубыми дощечками с надписями, прибитыми в коридорах, похожих на аллеи города… Церковная улица… Столовая улица… Кухонная улица… И во второй раз в его памяти мелькнула картина прошлого; он видел себя нарядным, счастливым мальчиком на пороге этой приемной, куда он входил теперь постаревшим, беспокойным.
Таким образом его всюду преследовало улыбающееся или мучительное прошлое.
Приходилось сделать несколько расспросов, прежде чем узнать, где находится Домье. Он еще не ушел. Неутомимый труженик работал весь день и с наступлением лета, пользуясь светлыми днями, увеличил число часов, посвящаемых своим наблюдениям под микроскопом; он обедал позднее, почти вечером, в небольшом соседнем ресторане.
В ту минуту, как мальчик-слуга вводил его в лабораторию, Морис увидал, что Домье сидит на высоком табурете и рассматривает под микроскопом маленькие четырехугольные стеклышки, на которых приклеены какие-то крошечные точки.
Повернув трубку инструмента, он произнес, не отрывая от него глаз:
- Это вы, Лука?
- Нет, это не Лука, - ответил Морис. - Это я.
- А, вот как! Здравствуйте, Морис! - сказал доктор и, обернувшись, подал ему руку. - Надеюсь, у вас нет больных?
- Нет. Я пришел к вам… чтобы вас видеть… чтобы поговорить с вами. Я вас не беспокою?
- Да ничуть… Присядьте. Я рассматриваю вырезы, которые сделал вчера. Еще два, и я кончу. Но ведь это работа пальцев, и она не мешает мне говорить… Не хотите ли папироску?
Морис взял одну из свертка, который предложил ему доктор и закурил ее о спиртовую лампочку. Предоставив Домье его занятиям, он стал рассматривать незатейливую обстановку лаборатории: пластинки, химическую печь, один из тех столов с фаянсовой поверхностью, которые химики называют соломенником, два шкафа со стеклянными дверцами, переполненных этикетками, и повсюду пластинки, бокалы, наполненные зеленоватой жидкостью, содержащей в себе частицы человеческого мозга, хранящегося в спирту в больших закупоренных банках. Все эти научные приспособления пленяли его, как пленяют бесполезных, праздных людей. Он видел в этом признаки ежедневной трудовой жизни, так непохожей на его собственную, бездельную, дилетантскую жизнь. Он воскликнул:
Как вы счастливы, доктор! Вы живете здесь спокойно; вы защищены от всех искушений света и женщин; у вас на каждый день есть определенная работа. И она тотчас же вознаграждает вас… Это выше искусства!
- Конечно, - ответил Домье, не прерывая своего занятия, - чтобы уравновесить жизнь, всегда хорошо иметь определенный труд, который не возбуждает умственной неустойчивости, свойственной вам, артистам, в достижении вашей цели… Когда я встаю утром, я могу приняться за тот труд, на котором остановился накануне; нужны только глаза, старание, внимание и известная усидчивость, которая приобретается привычкой…
- Что вы делаете в эту минуту?
- Я продолжаю необходимые наблюдения для моей книги о болезни Морвана… Вот видите…
Он встал и указал Морису на склянки, в которых в мутном спирту плавали какие-то зеленоватые змейки. На всех этикетках стояла главная надпись: «Болезнь Морвана», а внизу было написано: мозг Германа, мозг Жозефины Юдель и т. д.
Морис спросил:
- Кто был этот Морван, страдающий этой болезнью?
- Морван не имя больного, а фамилия доктора, изучавшего этот род болезни. Она состоит в пробуравливании, в гниении мозга, начинающемся с центра и идущем на поверхность. Само собою разумеется, что она всегда сопровождается умопомешательством. Так (он открыл одну из банок и взял в руки мозг, не замечая, что Морис бледнеет) вот малый мозжечок этой Жозефины Юдель, мозг которой у меня хранится в другой склянке. Наружная оболочка, плева, должна была бы отделяться при извлечении, а вместо этого, взгляните (он дернул оболочку), она не подается, она держится на затвердениях; если я захочу ее сдернуть, то она рвется около главного узла. Вот что бывает с мозжечком. Теперь обратите внимание на мозг.
Из склянки с этикеткой «Мозг Жозефины Юдель», он вынул зеленоватую змейку. Взглянув на перерез, Морис увидал, что он был пробуравлен, представляя собою в длину как бы каучуковую трубку.
- Вот большой мозг, - сказал Домье. - В нем пробуравлена центральная дырка, - вы видите?
- А какие же внешние признаки этой болезни? - спросил Морис, который, в силу животного эгоизма, уже ужасался, боясь открыть в самом себе симптомы этой ужасной болезни.
- Признаки ее довольно странные, - ответил доктор. - Она, так сказать, уничтожает тело, - высасывает мускулы, оставляет только инертную оболочку кожи на скелете. Потом мозговые лопасти умирают одна за другою. Это паралич и смерть. Вот сейчас, когда мы выйдем отсюда, я вам покажу между смирными вязальщиками, которых вы увидите в парке, не мало моих пациенток. А в общем… Вы человек, которому можно доверить тайну?
- Несомненно.
- Прекрасно. Или я очень ошибаюсь, или наш общий друг Сюржер страдает болезнью Морвана.
Морис побледнел. Он уже представил себе в одном из трех хрустальных сосудов головной мозг мужа Жюли, а в бокалах костяной, просверленный этой таинственной болезнью. Вся его натура возмутилась против этой картины; ничтожность бытия ужаснула его. Он почувствовал самого себя слабым созданием, которому непрерывно грозят какие-то тайные, враждебные паразиты. Домье, видя, что он побледнел, спросил его:
- Что это с вами?
- Уйдемте отсюда… - сказал он. - Я чувствую, что со мной сделается дурно, если мы еще здесь останемся.
- Ах, ваши нервы!… - прошептал Домье с оттенком презренья. - Хорошо, уйдем. Вы отобедаете со мной?
- Очень охотно.
Доктор взял со склянки свою мягкую шляпу, испещренную мелкими крапинками соляной кислоты.
- Пойдемте обедать. Я поведу вас в мой ресторан, хотите? В данное время я нахожусь на положении холостяка. Жена и детишки уехали в деревню.
Это был скромный и чистенький ресторан на бульваре Hоpital, посещаемый главным образом служащими на железной дороге.
Когда они пришли, служанка собирала со столов, покрытых чистыми, грубыми скатертями.
- Осталось ли еще что-нибудь поесть, Луиза?
- Конечно, сударь. Можно послать, если чего-нибудь не достанет. Этот барин ужинает с вами?
- Да. Подайте также бутылку вина.
Они сели. Выбеленная зала так и блестела голландской чистотою под этими лучами парижского летнего вечера, полного сильных ароматов. Париж, видневшийся в эти широкие окна с мелкими стеклами, казался провинциальным городом, и зала со стенами, выбеленными известью, с белыми коленкоровыми занавесками, разделявшимися посредине, имела вид монастырской столовой, выходящей в аллею маленького городка.

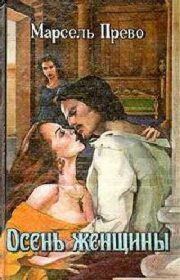
"Осень женщины. Голубая герцогиня" отзывы
Отзывы читателей о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня" друзьям в соцсетях.