Морис, очарованный этой тишиною, повторил:
- Как вы счастливы!
- Опять!… Чем это счастливы?
- Тем, что вы женаты, и тем еще, что занимаетесь любимым трудом… Вы, по крайней мере, хоть живете! Вы знаете, как идет наша жизнь. Каждый час занят известным делом. Моя же жизнь не оставит после себя следа.
- Почему вы не работаете? Он с полуулыбкой задал этот вопрос и Морис прочел в этой слегка презрительной улыбке равнодушие труженика к работе любителя-артиста.
- Я не работаю, - ответил он, желая оправдаться, - не из лености и даже, мне кажется, не оттого, что у меня не хватило бы способностей… Я не работаю потому, что я слишком многого требую от работы, а в настоящее время я переживаю выжидательный период, я вернусь к работе, когда этот период окончится.
Продолжая есть с большим аппетитом кусок сочного ростбифа, Домье объявил:
- Я не понимаю.
- Ну, хорошо! - ответил Морис, решившийся без всяких околичностей приступить к цели своего визита. - Ну, хорошо!… Вот что: у меня есть связь в Париже!… Любовница из светской буржуазии, вдова, - прибавил он, чтобы не подать подозрения Домье. - Я не могу на ней жениться. Я не вижу впереди исхода, пока я не найду его, я не буду знать ни нравственного спокойствия, ни работы…
- Но, - заметил доктор, - если вы действительно счастливы, если вы любимы женщиной, которую вы любите… разве так необходимо, чтобы вы меняли образ жизни и чтоб вы отдались работе? В жизни должны быть производители и потребители, жуиры. Вы говорите, что завидуете мне? Неужели вы думаете, что иногда, когда я иду выкурить сигару в Булонский лес, мне не приходит желание пожить хоть недельку, хоть один день так, как живут эти праздные люди в окрестных отелях? Конечно, да, мой милый! Только, когда я ловлю себя на подобных мечтах, я немедленно беру над собою силу воли и встряхиваюсь от них, как собака, вылезшая из воды… Я думаю о моей лаборатории в госпитале, о моем маленьком ресторане, о моих мозгах, о моих мозжечках, о моей жене, о моих детях, кое о ком из моих друзей, и я говорю себе, что во всем этом много хорошего, того хорошего, которого не знают другие. Ни они, ни я, никто из нас не чувствуют себя вполне счастливым, - это несомненно; но, как я имею свои радости и печали, так и они имеют свои.
Они рассеянно ели десерт. Домье звонко щелкал зубами орехи. Морис одну за одною ел ягодки винограда, выплевывая кожу.
Он уже несколько успокоился и яснее глядел на свое положение.
- Все, что вы говорите, прекрасно, когда обстоятельства позволяют человеку действовать согласно его наклонностям и темпераменту. Но разве вы не допускаете ума у ваших богачей или склонности к роскошной, праздной жизни у глупцов?
- Я допускаю все случаи, когда я их констатирую, - ответил Домье. - На практике привычка к известному образу жизни притупляет главным образом чрезмерные стремления. Те, которые положительно созданы для того, чтобы быть поставленными за образец, достигают желаемого или, если терпят неудачи, исчезают. Это закон природы.
- Прекрасно; я прошу вас доктор, принять во внимание, что я принадлежу к этим последним. Я стремлюсь выйти из ряда праздных людей и перейти в лагерь тружеников. Хотите мне помочь?
Домье, закуривавший в это время сигару, с удивлением взглянул на него.
- Конечно, хочу. Что же я могу сделать?
- Я хотел бы вести полезную жизнь. Для этого, прежде всего, надо уехать отсюда, оставить Париж.
- И вы хотите найти способ оставить его, не подав никому повода удивляться этому… Предписание ехать на какие-нибудь воды?
- Именно. Только я не болен.
- О, жизнь по строгому режиму и несколько стаканов воды из какого-нибудь целебного источника никогда не могут быть бесполезны. Они успокоили бы вас, привели бы в порядок ваши нервы, издерганные в этой непрерывной лихорадке парижской жизни.
- Прекрасно; пошлите меня, куда хотите, только подальше… подальше… Пошлите меня в страну, где я буду один, где я ни с кем не буду знаком, подальше от этих больших дорог, ведущих в Париж.
Чувство эгоизма овладело им; он уверял себя, что вдали от Жюли, вдали от Клары он лучше справится с самим собою.
Домье спросил его:
- Вы говорите по-немецки?
- Нет; но немножко по-английски…
- Ну что ж, и это хорошо… Я пошлю вас в Гамбург…
Это английская Германия, вы встретите там только американцев и подданных королевы… Тамошние воды хороши для анемичных и для невропатов, к которым вы принадлежите. Вы ничего против этого не имеете?
- Это далеко от Парижа?
- На расстоянии одной ночи и половины дня пути. Вы можете разделить ваше путешествие на две части, остановившись в Кельне.
- Хорошо. Я поеду в Гамбург.
Домье велел подать чернила и бумагу, написал предписание и отдал его Морису.
- Благодарю вас, сказал Морис, - вы меня спасаете от меня самого.
- Ах! - произнес доктор, покачав головою. - Подумать только, что большая часть больных из высшего света, которые приходят за советом к профессорам туда (он указал на стены госпиталя), подумать только, что почти все они страдают тою же болезнью, как и вы: безалаберной, распутной жизнью!… Хотите слышать мое мнение о необходимом для вас способе лечения?… Женитесь!
Он остановился; Морис побледнел, услышав слово «женитесь».
- Простите, - сказал доктор, взяв его руку.
Они вышли из ресторана, прошлись немножко по аллее, погруженной теперь в ночную тьму. Они молчали, всякий был занят своими мыслями.
- Ну, - сказал Морис, внезапно приходя в себя, - я вас покидаю. Благодарю вас за этот ободряющий вечер, который я провел в вашем обществе. Будьте так добры, напишите Эскье, чтобы убедить его, что мой отъезд необходим.
- Эскье завтра же получит мое письмо или я сам буду на Ваграмской площади.
Они расстались.
IV
Курьерский поезд Северной железной дороги уносил Мориса; он лежал полураздетый под одеялами на диване купе. Колыханье вагона убаюкивало его грусть, от которой как бы онемели его члены и мозг.
Несмотря на все это, мрачное, тяжелое бегство ночью было некоторым облегчением, освобождением.
«Я оставил позади себя то, что разрывало мне сердце, - думал он. - Каково бы ни было будущее, оно все таки лучше, чем то, что я оставил».
Три дня и три ночи прошло с той минуты, когда он решил свой отъезд. При воспоминании об этом времени, о муках медленного расставания, он испытывал такую боль, точно снова переживал их. Квартира в улице Сhambiges стояла перед его влажными от слез глазами. Электрический звонок… он пошел отворить дверь: это была Жюли. Их продолжительные отношения до такой степени сроднили их души, что Жюли, сию же минуту, прочла в глазах Мориса страшную угрозу, - она поняла, что разлетается в прах дорогое ей здание, вся ее жизнь, - их любовь. Энергичным движением, так несвойственным врожденной ей кротости, она отстранилась от его поцелуя.
- Что случилось?
Он попробовал отдалить признание.
-Да ничего!…
- Говори! Говори сейчас же, это лучше…
И тогда на диване, обложенном подушками, - на том самом диване, где они в хорошие дни столько раз ворковали, как голубки, - они слили свои слезы, - в рыданьях сделали признанье. Жюли первая решилась произнести страшное слово:
- Ты уезжаешь?
Она отгадала этот отъезд, она чувствовала его в воздухе эти последние дни. Она прекрасно знала, изучив слабые стороны сердца Мориса, что это будет прелюдией их окончательного разрыва; сначала он скажет, что едет ненадолго, а потом продлит свое путешествие; она знала это, но тем не менее удар был слишком мучителен, ей все еще хотелось сомневаться.
- Ты уезжаешь?
- Доктор предписал мне гамбургские воды…
- Ты уезжаешь! Ты уезжаешь!
О, эти рыдания, это страшное горе любимого существа!… И быть причиной этого страдания!… Она плакала, эта любимая женщина, у которой он отнял жизнь, которая жила только им одним! Она плакала, она страдала все из-за него! Одну минуту он колебался в своем решении.
- Если ты хочешь… Я не уеду… И потом, ведь я же уезжаю не навсегда… я не покидаю тебя… Клянусь тебе, что я скоро вернусь! Я тебя люблю… я тебя люблю! Только видишь ли… я переживаю один из тех кризисов, которые, ты знаешь, помнишь, как перед моей поездкой в Авейрон… Разве мы потом не горячее любили друг друга?… Париж выводит меня из терпения… Мне надо уехать. Но я тебя люблю, я тебя люблю!…
В эту минуту он искренно готов был на самопожертвование. Он видел, что препятствие загородило ему путь, но он обрекал себя на эту узкую тропинку, решался не переступать за эту преграду жизни и ничего не ждать от будущего…
- Я тебя люблю! Я тебя люблю!
Она его больше не слушала, она не хотела, не могла его больше слушать. Она встала и несмотря на его объятия, несмотря на поцелуи, которыми он осыпал ее бледные щеки и пряди светлых волос, она высвободилась в первый раз с возмущением и отчаянием. Она отворила дверь, она убежала… Он остался один…
На другой день, после мучительной ночи, о которой Морис никогда ничего не узнал, она снова пришла к нему в обычный час, если не спокойная, то покорившаяся. Она первая заговорила об его отъезде, она занялась укладыванием его вещей, как прежде, когда он уезжал ненадолго. Как и накануне, как и всегда вообще, между Г ними не было произнесено имя Клары.
Вечером, перед отъездом, они обедали в отдаленном ресторане, на улице Клиши. Это был обед людей, приговоренных к смерти; они сели в общем зале, потому что боялись ослабеть, оставшись наедине. Они машинально, почти с отвращением ели подаваемые им кушанья; время шло страшно медленно и вместе слишком быстро. Два раза Жюли готова была потерять сознание. Когда они вышли из ресторана, им оставалось провести вместе больше сорока минут. Они сели в карету и велели кучеру не торопясь ехать вдоль бульвара Rochechou- art; они были уверены, что здесь их никто не встретит.

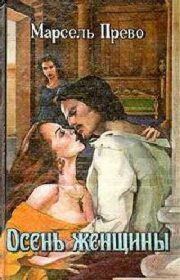
"Осень женщины. Голубая герцогиня" отзывы
Отзывы читателей о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня" друзьям в соцсетях.